- Chapter #1
- Chapter #2
- Chapter #3
- Часть первая. Боги, что отвечают после прихода темноты
- Часть вторая. Самый темный час
- Часть третья. Три сотни лет и три слова
- Часть четвертая. Человек, который остался сухим под дождем
- Часть пятая. Призрак, который улыбнулся, и девушка, которая улыбнулась в ответ
- Часть шестая. Не притворяйся, что это любовь
- Часть седьмая. Я тебя помню
- Благодарности
Незримая жизнь Адди Ларю
Часть шестая. Не притворяйся, что это любовь
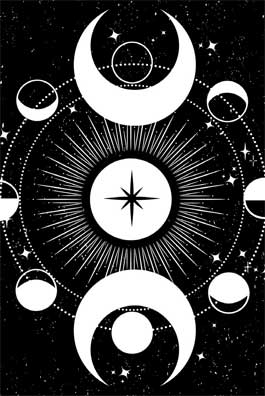
I
29 июля 1914
Вийон-сюр-Сарт
В Вийоне дожди.
Сарт выходит из берегов, ливень превращает тропинки в грязевые потоки, что устремляются к дверям домишек, гудят в ушах Адди бесконечным шумом льющейся с небес воды. Она закрывает глаза, и ей снова десять, пятнадцать, двадцать. По отмытой дочиста деревне она бежит босиком с влажными юбками и развевающимися за спиной волосами. А потом снова открывает глаза, и проходит две сотни лет.
Маленькая деревушка изменилась, и это заметно невооруженным взглядом. Адди узнает все меньше и меньше, находит больше и больше непривычного. Кое-где она еще может разглядеть знакомые места, но воспоминания поизносились, годы до сделки почти стерлись.
Однако кое-что осталось неизменным.
Дорога, что проходит через городок.
Маленькая церковь в центре.
Низкая ограда кладбища.
Адди медлит в дверях часовни, наблюдая за бурей. Когда она приехала, у нее с собой был зонт, но резкий порыв ветра погнул спицы. Хорошо бы дождаться, пока перестанет дождь, ведь у Адди всего одно платье. Но она подставляет ладонь каплям, падающим с небес, и вспоминает Эстель: та, раскинув руки, всегда выходила навстречу буре и приветствовала непогоду.
Покинув убежище, Адди спешит к воротам кладбища.
За считанные мгновения она промокает до нитки, но дождь теплый, да и Адди не сахарная. Она идет мимо нескольких новых надгробий и множества старых, кладет по цветку шиповника на могилы родителей, а потом отправляется на поиски Эстель.
Все эти долгие годы она скучала по старухе, по ее утешению и советам, сильной хватке, хриплому смеху. Эстель верила в Адди, когда та еще была Аделин, еще была здесь, еще была человеком. И хоть она изо всех сил цепляется за эти воспоминания, голос Эстель с годами почти исчез из памяти. Только на кладбище Адди могла его воскресить. Присутствие Эстель чудилось повсюду – в древних камнях, в земле, поросшей сорняками, старом дереве над могилой…
Но как раз дерева-то и нет.
Могильный холмик по-прежнему на своем участке, он осел, надгробие пошло трещинами, а вот прекрасное дерево с раскидистыми ветвями и глубокими корнями исчезло.
Остался лишь корявый пень.
Шумно вздохнув, Адди опускается на колени и гладит мертвый расколотый обрубок. Нет! Только не это… Она и так многое утратила и оплакала, но впервые за все годы ее настигает ошеломляющее чувство потери. Ей не хватает воздуха, не хватает сил.
Горе, глубокое, точно колодец, окутывает Адди.
Зачем сажать семена? Холить их и взращивать?
Все равно все погибнет, умрет.
Осталась лишь она – одинокий призрак, который горюет по своей потере. Зажмурившись, Адди пытается вызвать в памяти Эстель, вспомнить голос старухи: пусть та скажет ей, что все будет хорошо, что это лишь дерево, – но голос пропал, потерялся в буре эмоций.
Адди сидит на кладбище до заката.
Дождь превратился в морось, капли изредка барабанят по камню. Она промокла насквозь, но не чувствует этого – почти ничего не чувствует, пока за спиной не начинает дрожать воздух и сгущаться тень.
– Мне жаль, – произносит шелковистый голос.
Впервые на ее памяти слова из уст Люка звучат искренне.
– Твоих рук дело? – шепчет она, не поднимая взгляда.
К ее удивлению, Люк опускается рядом с ней на промокшую землю. Но его одежда выглядит совсем сухой.
– Ты не можешь винить меня во всех несчастьях, – вздыхает он.
Адди даже не понимала, что дрожит, пока Люк не обнимает ее за плечи. Она вздрагивает под тяжестью его руки.
– Знаю, я бываю жесток, но природа суровее меня.
Теперь Адди замечает: пень пересекает обугленная линия. Быстрый, горячий удар молнии.
Легче ей не становится.
Адди не в силах смотреть на обрубок дерева. Не в силах больше здесь оставаться.
– Идем, – говорит Люк, поднимая ее на ноги.
Адди не знает, куда они направляются, да ей и все равно, лишь бы подальше отсюда. Она поворачивается спиной к обугленному пню, почти сравнявшейся с землей могиле.
«Даже камни…» – думает Адди, следуя за Люком прочь от кладбища, деревни, от своего прошлого.
Сюда она больше не вернется.
* * *
Париж, конечно же, изменился куда больше Вийона.
За прошедшие годы его отполировали до блеска: белокаменные здания с угольно-черными крышами, высокие окна и железные балконы, широкие проспекты с цветочными магазинами и кафе под красными маркизами.
Люк и Адди сидят во внутреннем дворике, ее платье полощется на летнем ветру, на столе – открытая бутылка портвейна. Адди пьет, надеясь стереть из памяти образ дерева, и знает, что никакое вино не избавит ее от воспоминаний.
Но это не значит, что не стоит пытаться.
Откуда-то с берега Сены доносится голос скрипки. За мелодией слышен шум автомобильного двигателя, мерный топот лошадиных копыт. Причудливая мелодия Парижа.
Люк поднимает бокал:
– С годовщиной, моя Аделин.
Адди смотрит на него, уже приготовившись выдать привычную реплику, но вдруг осекается. Если она принадлежит ему – значит, и он должен принадлежать ей.
– С годовщиной, мой Люк, – отвечает Адди, просто чтобы взглянуть на его реакцию.
В награду она получает приподнятую бровь, вздернутый уголок рта, удивление в зеленых глазах.
Затем он опускает взгляд, покручивая бокал.
– Однажды ты сказала, что мы похожи, – говорит Люк словно бы сам себе. – Мы оба… одиноки. Я возненавидел тебя за это. Но ты в какой-то мере права. Полагаю, – медленно добавляет он, – в компании есть смысл.
Никогда еще его слова не звучали так по-человечески.
– Ты скучаешь по мне, когда тебя нет рядом? – спрашивает Адди.
Он поднимает глаза, светящиеся изумрудом даже в темноте.
– Я рядом куда чаще, чем ты думаешь.
– Ну конечно, – фыркает Адди, – приходишь и уходишь, когда вздумается! А мне остается только ждать.
Его взгляд темнеет от удовольствия.
– Ты ждешь меня?
Теперь черед Адди смотреть в сторону.
– Ты сам это сказал. Нам всем нужна компания.
– А если бы ты могла меня позвать?
Пульс Адди слегка учащается.
Она еще не подняла головы и потому сразу видит его – катящийся к ней по столу. Тонкий ободок, вырезанный из светлого ясеня.
Кольцо. Ее кольцо!
Дар, что она вручила мраку той ночью.
Дар, которым он пренебрег, обратив его в дым.
Тот образ, который он воссоздал в церкви у моря.
Но если это иллюзия, то бесподобная. Вот выбоина – здесь долото отца вонзилось слишком глубоко. Вот гладкое местечко, отполированное пальцем за годы тревог.
Оно настоящее. Должно быть настоящим. И все же…
– Ты его уничтожил.
– Забрал, – поправляет Люк, глядя на нее поверх бокала. – Это не одно и то же.
Адди захлестывает неукротимый гнев.
– Ты сказал, что это ерунда!
– Я сказал, этого недостаточно. Но я не уничтожаю красивые вещи без причины. Я взял его на время, но оно всегда принадлежало тебе.
Адди любуется кольцом.
– Что мне нужно делать?
– Ты умеешь призывать богов.
В ушах раздается негромкий шепот Эстель:
– Надень его на палец, и я приду. – Люк лениво откидывается на спинку кресла, ночной ветер раздувает непокорные кудри. – Отныне мы равны.
– Мы никогда не будем равны, – рассеянно отзывается Адди, покручивая кольцо.
Она решает никогда его не надевать.
Это вызов. Игра, замаскированная под подарок. Уже не война, а пари. Битва характеров. Для нее надеть кольцо, воззвать к Люку означает сложить оружие, признать поражение.
Она убирает подарок в карман, принуждая себя выпустить его из пальцев, и только тогда замечает, какое напряжение разлито в воздухе.
Она уже ощутила эту энергию раньше, однако не могла определить, что это, но Люк объясняет:
– Грядет война.
Адди пока ни о чем подобном не слышала. С печатью угрюмого раздражения на лице Люк рассказывает ей об убийстве эрцгерцога.
– Ненавижу войну, – мрачно заключает он.
– Думала, тебе нравятся распри.
– Последствия их порождают всплеск искусства. Но война даже циников заставляет верить. Низкопоклонники жаждут избавиться от грехов. Все вдруг начинают цепляться за свои души и трясутся над ними, как вдова над лучшим жемчугом. – Люк скорбно качает головой. – Верните мне Belle Epoque![31]
– Кто бы подумал, что даже боги страдают ностальгией?
– Тебе лучше исчезнуть отсюда, пока все не началось, – заявляет он, допивая портвейн и поднимаясь. Адди смеется: звучит так, будто ему не все равно. Кольцо внезапно тяжелеет в кармане. Люк протягивает ей руку: – Я помогу.
Стоило бы согласиться, сказать «да», позволить провести себя через ужасающую тьму, спастись от паршивой недели в брюхе корабля, где придется ехать зайцем. Красоты морских просторов Адди все равно не видать.
Но она была хорошей ученицей и привыкла твердо отстаивать свое.
Люк качает головой:
– Все такая же упрямая ослица.
Адди бравирует, но после ухода Люка у нее не идут из головы тени в его глазах, мрачные речи о грядущем противостоянии. Если сами боги и черти страшатся битвы, это ли не знак?
Спустя неделю Адди сдается и поднимается на борт корабля до Нью-Йорка.
К тому времени, как тот причаливает к другим берегам, мир уже охвачен войной.
II
29 июля 2014
Нью-Йорк
Просто очередной день, уверяет себя Адди. Обычный день, как все остальные, но, разумеется, это не так.
Минуло три сотни лет с тех пор, как она должна была выйти замуж – принять будущее против своей воли.
Три сотни лет назад Адди опустилась на колени в чаще и воззвала к мраку, потеряв все, кроме свободы.
Три сотни лет.
Почему нет бури или затмения, которые бы отметили значимость момента?
Но наступающий день прекрасен и безоблачен.
Вторая половина кровати пуста, однако с кухни доносятся негромкие звуки. Пальцы ноют, и в центре ладони завязался болезненный узел – должно быть, она слишком крепко стиснула одеяло.
Адди разжимает руку, и на пол падает деревянное кольцо.
Она смахивает его с кровати, словно паука или дурное предзнаменование, прислушивается, как оно стучит, подпрыгивая по твердому полу. Адди подтягивает колени и утыкается в них головой, судорожно дыша. Напоминает себе, что это просто кольцо и сегодня самый обычный день.
Но в груди все туже затягивается узел – глухой ужас, который велит бежать, бежать как можно дальше от Генри на случай, если явится
«Не явится», – убеждает себя Адди.
Давно уже не приходил.
Но рисковать ей не хочется.
Генри костяшками стучит по открытой двери. В руках у него тарелка, на ней пончик, в который воткнуто три свечи.
Адди невольно смеется.
– А это еще что?
– Не каждый день твоей девушке исполняется триста!
– Это же не день рождения.
– Знаю, но другого названия не придумал.
А в ее голове сразу дымом клубится голос:
– Загадай желание, – предлагает Генри.
Адди чуть медлит и задувает свечи.
Генри заваливается на постель с ней рядом.
– Я весь день свободен. В магазине прикроет Беа, можем сесть на поезд и… – Но, увидев ее взгляд, он осекается: – Что с тобой?
Ужас, который страшнее голода, когтями впивается ей в живот.
– Думаю, нам не стоит быть вместе. По крайней мере, сегодня.
– Ясно, – огорчается Генри.
Адди обхватывает ладонями его лицо и врет:
– Это просто день, Генри.
– Верно, просто день. Но сколько из них он испортил? Не позволяй отбирать у себя еще один. – Он целует ее. – У нас.
Если Люк застанет их вместе, он устроит что-нибудь похуже.
– Идем, – настаивает Генри. – Я верну тебя еще до того, как ты превратишься в тыкву. Если потом все же захочешь провести ночь по отдельности, я пойму. До темноты далеко, тогда и будешь о нем тревожиться, а пока что ты заслужила еще один отличный день. Прекрасные воспоминания.
И правда. Она заслужила.
Ужас понемногу отступает.
– Хорошо, – отвечает Адди. Всего одно слово – и лицо Генри светится от счастья. – Так что ты задумал?
Генри исчезает в ванной и возвращается с желтыми купальными плавками и перекинутым через плечо полотенцем. На кровать он бросает бело-голубое бикини.
– Вперед!
* * *
На Рокуэй-Бич – море разноцветных полотенец и воткнутых в песок флагов.
Вместе с волной прилива прокатывается волна смеха. Дети строят песочные замки, взрослые отдыхают на солнышке.
Генри раскладывает полотенца на небольшом свободном участке, придавливает обувью, чтобы не унесло ветром; Адди берет его за руку, и они, обжигая ступни, бегут по пляжу к влажной линии прибоя и ныряют в волны.
От первого же прикосновения к воде, прохладной даже в такую жару, Адди вскрикивает и идет по песку вброд, пока не окунается в океан по пояс. Генри ныряет с головой и тут же выныривает, с очков капает вода. Он притягивает Адди к себе, сцеловывает соль с пальцев, она убирает у него с лица волосы. Адди и Генри стоят, обнявшись, в прибое.
– Ну вот, – улыбается Генри, – ведь так же лучше?
Да. Лучше.
Они плавают и плавают. Наконец у них начинают ныть руки и ноги, а кожа морщится от воды, только тогда Адди и Генри выходят на берег и растягиваются на полотенцах, чтобы обсохнуть на солнце. Но лежать слишком жарко, и вскоре запах еды, которым веет с дощатого настила, заставляет вскочить на ноги.
Генри собирает вещи, Адди присоединяется к нему и принимается стряхивать с полотенца песок.
Вдруг откуда-то выпадает деревянное кольцо. Оно темнеет на песке, как дождевая капля на сухом тротуаре. Адди приседает рядом, присыпает его пригоршней песка и пускается вдогонку за Генри.
Они заходят в бар с видом на пляж, заказывают тако и маргариту со льдом, наслаждаясь ароматом и сладко-соленой прохладой. Генри вытирает очки, Адди смотрит на океан. Прошлое приливной волной затапливает настоящее.
– Что с тобой? – спрашивает Генри.
Адди поворачивается к нему.
– А что?
– Такой взгляд у тебя бывает, когда ты вспоминаешь.
Адди снова смотрит на Атлантический океан и бескрайнюю линию пляжа, на горизонте маячат воспоминания. За едой она рассказывает Генри обо всех побережьях, которые видела, о том, как переправлялась через Ла-Манш, о белых скалах Дувра, вздымающихся из тумана. О том, как зайцем плавала на корабле у берегов Испании, как по пути в Америку захворал весь экипаж и пассажиры, а ей пришлось симулировать болезнь, чтобы не приняли за ведьму.
Когда Адди устает говорить и коктейль заканчивается, они снова отправляются на пляж и следующие несколько часов курсируют между торговыми палатками и прохладными объятиями прибоя, выходя на горячий песок, только чтобы обсохнуть.
День проходит слишком быстро, как и все хорошие дни.
Наступает пора уходить – они отправляются в метро, и поезд увозит их, пьяных от солнца и сонных. В дороге Генри достает книгу, но у Адди слипаются глаза, она придвигается к нему, смакуя аромат нагретой солнцем бумаги. Сиденье пластиковое, воздух в вагоне затхлый, но Адди еще никогда не было так хорошо.
Она чувствует, как ее голова клонится на плечо Генри, а тот, прижавшись к ее макушке губами, шепчет три слова:
– Я люблю тебя.
Адди гадает: неужели эта нежность и вправду любовь?
Бывает ли она вот такой мягкой, такой доброй?
Это разница между жаром и теплом.
Страстью и удовлетворением.
– Я тоже тебя люблю, – отвечает она.
Ей хочется, чтобы это было правдой.
III
29 июля 1928
Чикаго, Иллинойс
Над стойкой парит ангел. Это витраж, подсвеченный сзади: в одной руке ангел держит чашу, другую простирает вперед, словно призывая к молитве.
Но это не церковь.
Подпольные заведения нынче как сорняки, пробивающиеся между камнями Сухого закона. У клуба нет особых примет, только ангел с чашей, выбитое число «двенадцать» римскими цифрами над дверью – время начала и окончания работы, полдень и полночь, – бархатные портьеры, шезлонги, расставленные вдоль стен, и маски, которые выдают завсегдатаям у входа.
Этот клуб, как и большинство остальных, лишь слух, секрет, передаваемый из одних пьяных уст в другие, столь же пьяные уста.
Адди здесь нравится.
В этом заведении царит первобытная страсть.
Адди танцует. Иногда одна, иногда в компании незнакомцев. Растворяется в ритмах джаза, что волнами бьется о стены, заливая музыкой набитый публикой зал. Танцует, пока перья маски не начинают липнуть к щекам от пота. Задыхающаяся и красная, она наконец уходит с танцпола и падает в кожаное кресло.
Почти полночь; ее пальцы поглаживают горло, где кожи касается теплый ободок деревянного кольца, висящего на серебряной нити. Оно всегда под рукой.
Как-то раз нить порвалась, и Адди уже думала, что кольцо потерялось. Но позже нашла его в целости и сохранности в кармане блузы. В другой раз она забыла его на подоконнике, а спустя несколько часов снова обнаружила на шее.
Единственное, что Адди не может потерять.
По давней рассеянной привычке – как накручивают локон на палец – она поигрывает с кольцом. Скребет ногтем кромку, вертит в руках, не давая скользнуть на палец.
Она хотела сделать это сотни раз. Когда особенно сильно страдала от одиночества, когда ей было скучно, когда видела что-то необыкновенно красивое и вспоминала о
Четырнадцать лет она противится желанию надеть кольцо на палец.
Четырнадцать лет он ее не навещает.
А значит, она права – это игра.
Очередная расплата, позвать его – почти капитулировать.
Четырнадцать лет.
Адди одиноко, она немного пьяна, может быть, именно в эту ночь она сломается. Придется упасть, но не с такой уж большой высоты. Возможно, возможно… Чтобы занять руки, Адди решает выпить еще.
Она заказывает в баре джин с тоником, но мужчина в белой маске ставит перед ней бокал шампанского. Среди пузырьков плавает засахаренный лепесток розы. На удивленный взгляд Адди бармен кивает на чью-то тень в отделанной бархатом кабинке. Маска незнакомца выглядит как переплетенные ветки, а листья обрамляют прекрасные глаза.
При виде него Адди расплывается в улыбке.
Сказать, что она испытывает лишь облегчение, значит солгать. Словно груз падает с ее плеч – наконец-то можно вдохнуть.
– Я выиграла! – заявляет она, проскальзывая в кабинку.
Хотя Люк сдался первым, глаза его победно горят.
– Отчего же?
– Я не звала, а ты пришел.
Выпятив подбородок, он надменно осматривает ее.
– Ты решила, я здесь ради тебя?
– Ах, я и забыла, – отзывается Адди, подстраиваясь под его тон. – Ведь повсюду столько приводящих тебя в бешенство людишек, которых нужно убедить расстаться с душой.
Идеальные губы кривятся в ухмылке.
– Факт остается фактом: ты пришла ко мне. Я здесь хозяин.
Адди озирается и внезапно понимает: это правда. Теперь она видит знаки повсюду. Впервые замечает, что у ангела над стойкой нет крыльев. Что его кудри черны как смоль. А ореол, который она приняла за нимб, скорее всего, свет луны.
И ей становится интересно: что же ее сюда привело.
Неужели они с Люком притягиваются словно магниты? Они так долго кружили вокруг друг друга, что обзавелись общей орбитой?
Эти клубы станут для Люка излюбленным развлечением. Он посеет подобные заведения в десятке городов, будет заботливо пестовать и вырастит дикими и свободными. Их так же много, как церквей, скажет он, и они в два раза популярнее.
Его клубы на любой вкус будут процветать еще долго после отмены Сухого закона, и Адди задумается, что так привлекает в них Люка – энергия, которая их переполняет, или благоприятная почва для отлова душ. Место, где можно высматривать, искушать, обещать. В некотором смысле – поклоняться, хоть и немного иначе.
– Сама понимаешь, я выиграл.
– Это просто случайность, – качает головой Адди. – Я не звала тебя.
Он улыбается, поглядывая на кольцо на ее шее.
– Уж я-то тебя знаю. Твое сердечко так и замирает.
– И все же я не звала.
– Да, – тихо выдыхает он, – но я устал ждать.
– Так ты соскучился? – с улыбкой спрашивает Аделин.
В зеленых глазах мелькает ответный проблеск. Преломление света.
– Жизнь длинна, а люди – скучные создания. С тобой интереснее.
– Ты забыл, что я тоже человек.
– Аделин, – вздыхает Люк, и в его голосе слышится сочувствие. – Ты перестала быть человеком в ту ночь, когда мы впервые встретились. И никогда больше им не станешь.
При этих словах ее обдает жаром. Не приятным теплом, а гневом.
– Я – человек! – заявляет Адди, но голос подводит ее, словно она пытается произнести собственное имя.
– Ты ходишь промеж них как призрак, – Люк подается вперед, склоняясь лбом к ее лбу, – потому что ты не такая, как они. Не можешь, подобно им, жить, любить. У тебя с ними нет ничего общего.
Его рот произносит эти слова прямо ей в губы, голос – едва заметное дуновение ветра.
– Ты моя. – Слова громом грохочут в его горле. – Ты должна быть со мной.
Она смотрит ему в глаза и видит там совершенно новый оттенок зелени. На сей раз Адди прекрасно понимает его значение. Он вышел из себя. Грудь Люка вздымается и опускается совершенно по-человечески.
Вот куда можно вонзить нож.
– Я лучше останусь призраком.
И мрак впервые за все время вздрагивает. Отшатывается назад, как тень, испугавшаяся света. Его глаза светлеют от злости, и перед Адди снова тот бог, которого она так хорошо знает, монстр, с которым она уже сталкивалась.
– Воля твоя, – отзывается Люк.
Адди ждет, что он растворится во мраке, готовится к внезапной бездонной пустоте, думая, что и ее сейчас поглотят и выплюнут на другом краю света.
Но ни Люк, ни она не исчезают.
– Тогда вперед, – кивает он на танцующую толпу, – возвращайся к ним.
Лучше бы он ее наказал! Адди встает, хотя уже не в настроении пить или танцевать.
Чувство такое, словно она ушла с солнечного света, потому что во влажном воздухе зала ей сразу становится холодно. Люк по-прежнему сидит в обитой бархатом кабинке, Адди продолжает веселиться, но впервые ощущает стену, разделяющую ее и остальных людей. Она ужасно боится, что он прав.
В конце концов, Адди сдается и уходит.
На следующий день клуб уже закрыт, Люк исчез. Между ними прочерчены новые границы, расставлены фигуры, завязалась новая битва.
До начала войны они не увидятся.
IV
29 июля 2014
Нью-Йорк
Адди просыпается от толчка поезда. Открывает глаза, как раз когда вспыхивают и гаснут огни, и вагон погружается в темноту. В груди разливается паника, но Генри мягко сжимает ее руку.
– Это просто метро, – говорит он.
Свет загорается снова, поезд катится, голос по селектору объявляет, что они вернулись в Бруклин.
Затем поезд снова проезжает подземный участок, а когда выныривает, солнце по-прежнему на своем месте, на небе.
Измученные жарой и полусонные, они возвращаются в квартиру Генри, смывают в душе соль и песок и падают на постель. Влажные волосы приятно холодят кожу. Томик сворачивается клубком у ног Адди, а Генри прижимает ее к себе. Простыни прохладные, он – теплый, и даже если это не любовь, она все равно счастлива.
– Пять минут, – бормочет он, уткнувшись ей в волосы.
– Пять минут, – отзывается Адди, умоляя и обещая, и прижимается к нему крепче.
Солнце стоит высоко в небе. Время еще есть.
* * *
Адди просыпается в темноте. Когда она закрывала глаза, еще вовсю светило солнце. А сейчас комната погружена в полумрак, а небо за окном глубокого темного цвета.
Генри еще спит, но в доме слишком тихо, все будто бы замерло. Охваченная ужасом Адди садится на постели.
Она поднимается на ноги, не смея произнести его имя даже мысленно, выходит в темный коридор. Оглядывает гостиную, готовясь увидеть его растянувшимся на диване, расправившим длинные руки по спинке.
Но его там нет.
Разумеется, нет! Прошло почти сорок лет. Он давно не приходит, Адди так устала его ждать.
Она возвращается в спальню. Генри – волосы в беспорядке после сна – уже проснулся и ищет под подушкой очки.
– Прости. Надо было завести будильник. – Он складывает в сумку сменную одежду. – Переночую у Беа.
Адди перехватывает его руку.
– Не уходи…
– Ты уверена? – колеблется Генри.
Адди ни в чем не уверена, но день был такой замечательный, что не хочется тратить впустую ночь, не хочется отдавать ее
Он и так много забрал.
В доме совсем нет еды, поэтому они одеваются и отправляются в «Негоциант».
Их переполняет сонная легкость, к усталости после длинного дня, проведенного на солнце, добавляется дезориентация от прогулки в темноте. Та придает всему призрачный вид – идеальное завершение идеального дня.
Они заявляют официантке, что празднуют, а та интересуется, день рождения или помолвку.
– Годовщину! – поднимает Адди бокал пива.
– Поздравляю! – улыбается девушка. – И сколько лет?
– Триста!
Генри давится выпивкой, а официантка смеется, решив, что это шутка для своих. Адди просто улыбается. Играет музыка, перекрывая шум, и Адди заставляет Генри подняться.
– Потанцуй со мной, – просит она.
Генри тщетно объясняет, что не танцует, хотя в «Четвертом рельсе» растворялся в ритме вместе с ней, но здесь-то все иначе. Адди ему не верит: времена меняются, но танцуют все – вальс и кадриль, фокстрот и джайв, и еще десяток других танцев, уж Генри как-нибудь справится.
Она тащит его между столиками на танцпол – Генри даже не знал, что в «Негоцианте» он есть, – и они оказываются на нем единственной парой. Адди показывает, как держать руку, как подстраиваться под ее движения. Как вести, как крутить ее, отклонять назад. Куда положить руки, как ловить ритм, и на какое-то время все становится легко, просто и правильно.
Смеясь, они идут к бару за добавкой.
– Два пива! – просит Генри.
Бармен кивает и минуту спустя приносит им напитки. Но пиво только одно. Второй бокал пузырится шампанским, в котором плавает засахаренный лепесток розы.
Адди кажется, что мир перевернулся и она оказалась в темном туннеле. Под бокалом лежит записка – изящным наклонным почерком на французском написано: «Моей Аделин».
– Эй, – зовет бармена Генри, – мы это не заказывали.
Тот кивает на другой конец барной стойки.
– Комплимент от того господина… – И вдруг застывает. – Хм, он только что был здесь.
Сердце Адди оглушительно бьется в груди. Она хватает Генри за руку.
– Уходи!
– Что? Подожди…
Но времени уже нет.
Адди тащит его к выходу.
– Адди!
Люк не должен видеть их вместе, нельзя показывать, что они нашли друг друга…
– Адди!
Она наконец оглядывается, и земля словно уходит у нее из-под ног.
Бар неподвижен. Нет, он не опустел, но больше никто в помещении не двигается. Люди замерли на полпути, полуслове, не донеся напитки до рта. Не сами замерли, разумеется, их заставили окаменеть. Как марионеток, подвешенных на веревке. Музыка продолжает играть. Сейчас она негромкая, кроме нее во всем баре слышно только взволнованное дыхание Генри и стук сердца Адди.
Во тьме звучит голос:
– Аделин.
Весь мир словно затаил дыхание. Раздается лишь негромкий звук шагов по деревянному полу. Из сумрака появляется фигура.
Прошло сорок лет – и вот он, совершенно не изменился, так же как не изменилась и она. Те же кудри цвета воронова крыла, изумрудные глаза, лукавый изгиб губ. На нем черная рубашка на пуговицах, рукава закатаны до локтей, через плечо перекинут пиджак, рука свободно лежит в кармане брюк. Воплощение небрежности.
– Прекрасно выглядишь, любовь моя, – улыбается он.
При звуках его голоса в душе Адди как всегда ослабевает какой-то узел. Раскручивается канат, но не дает облегчения. Потому что она ждала, конечно же ждала, затаив дыхание, с ужасом и надеждой. И теперь наконец можно выдохнуть.
– Что ты здесь делаешь?
Люку хватает наглости принять оскорбленный вид.
– У нас годовщина. Я-то думал, ты помнишь.
– Сорок лет прошло!
– И кто в этом виноват?
– Один лишь ты.
Краешки его губ приподнимаются в улыбке. А потом взгляд зеленых глаз обращается к Генри.
– Полагаю, я должен быть польщен сходством?
Адди не клюет на удочку.
– Генри не имеет к этому никакого отношения. Отпусти его, он все забудет.
Улыбка Люка увядает.
– Я тебя умоляю, ты смущаешь нас обоих. – Он кружит вокруг них, словно тигр возле добычи. – Я ведь отслеживаю всех своих должников. Генри Штраус так отчаянно мечтал, чтобы его хотели. Продал душу за всеобщую любовь. Из вас вышла просто чудесная пара!
– Так отпусти нас.
Темные брови приподнимаются.
– А ты решила, что я хочу вас разлучить? Вовсе нет. Время сделает все за меня, и довольно скоро. – Он поворачивается к Генри. – Тик-так. Ты пока измеряешь жизнь днями или уже начал отсчитывать часы? Или это еще тяжелее?
Взгляд Адди мечется между ними: зеленые глаза Люка победно горят, с лица Генри сбежали все краски.
Она ничего не понимает.
– О, Аделин…
Имя возвращает ее в реальность.
– Человеческая жизнь так коротка. У некоторых она короче, чем у остальных. Наслаждайтесь тем, что осталось. И знай: это был его выбор.
Закончив, Люк разворачивается и исчезает во мраке.
Бар вновь оживает, заполняется шумом, и Адди вглядывается в тени, чтобы убедиться – те пусты.
Адди смотрит Генри: тот больше не мнется позади нее, он бессильно опустился в кресло.
Склонил голову и вцепился в запястье, там, где носят часы. Внезапно те вновь неведомым образом оказываются на его руке. Адди уверена на сто процентов – он их не надевал. Генри их не носит.
Однако часы как наручники сияют на его запястье.
– Генри, – начинает она, опустившись перед ним на колени.
– Я хотел тебе сказать… – бормочет он.
Адди притягивает часы к себе и всматривается в циферблат. Они с Генри провели вместе четыре месяца. За это время часовая стрелка переместилась с половины седьмого до половины одиннадцатого. Четыре месяца, на четыре часа ближе к полуночи. Адди всегда думала, что дальше стрелка пойдет на второй круг.
«На всю жизнь», – сказал Генри. Она знала, что это ложь.
Люк никогда бы не дал столько времени человеку – особенно после нее.
Она ведь знала, должна была знать! Просто решила, что Генри продал душу за пятьдесят, тридцать или даже десять лет – этого бы хватило.
Но на часах только двенадцать отметок, в году двенадцать месяцев, но Генри ведь не мог быть таким идиотом!
– Генри, сколько времени ты попросил?
– Адди, – умоляющим тоном произносит он, и впервые ее имя из его уст звучит иначе. Будто бы оно сломано.
– Так сколько? – требовательно спрашивает она.
Генри долго молчит.
А потом наконец раскрывает всю правду.
V
4 сентября 2013
Нью-Йорк
Юноша страдает от разбитого сердца. Он устал от бесконечных бурь. Он пьет, пока осколки не перестают царапать ему грудь, пока в голове не стихают раскаты грома. Пьет, когда друзья убеждают, что все будет хорошо. Пьет, когда они говорят, мол, это пройдет, пьет, пока бутылка не пустеет и мир не начинает размываться. Недостаточно, чтобы утихомирить боль, поэтому он уходит, и они его отпускают.
В какой-то момент по пути домой начинается дождь.
Звонит телефон, и звонок остается без ответа.
Разбивается бутылка, вспарывая ладонь.
Вот он уже возле своего дома – сидит на крыльце, прижимая руки к глазам и убеждая себя, что это всего лишь буря.
Но на сей раз она не собирается уходить. В облаках нет просвета, не видно лучей солнца на горизонте, гром в голове просто оглушающий. Генри достает несколько таблеток сестры – «маленьких розовых зонтиков», но те не помогают, поэтому он догоняется своими собственными.
Откинувшись на мокрую от дождя лестницу, Генри таращится вверх, туда, где край крыши встречается с небом, и не в первый раз прикидывает: а сколько шагов отсюда до этого края.
Генри точно не знает, хочет ли спрыгнуть. Вполне вероятно – нет. Может, он собирался войти внутрь, а затем подняться до квартиры, но у самой двери решает идти дальше, а потом – выйти на крышу. И, стоя там, под моросящим дождем, решает, что ему надоело решать.
Путь прям. Полоса блестящего гудроном асфальта, и лишь ступеньки отделяют Генри от края. Таблетки действуют, успокаивают боль, вот только после них тебя окружает ватная тишина, и от нее даже хуже. Глаза закрываются, и конечности наливаются тяжестью.
Это просто буря, говорит себе Генри, но он так устал искать от нее убежище.
Это просто буря, но за ней всегда придет следующая.
Буря, просто буря – но сегодня она слишком сильна. Генри не справляется.
Он пересекает крышу, не замедлив шага, пока не подходит к самому краю, заглядывает за ограждение, а носки ботинок уже нащупывают пустоту.
Там-то незнакомец его и находит.
Именно там мрак предлагает ему сделку. Не на всю жизнь – всего лишь на год.
Потом Генри удивится, как вообще согласился, отдал все за такую малость, но в тот миг, когда его ботинки уже скользят к краю, Генри думает лишь о том, что согласился бы и на меньшее. Вот и вся правда: он бы продал душу, всю свою жизнь даже за один день – за час, за минуту, за мгновение покоя.
Просто чтобы унять боль в груди.
Заставить умолкнуть бурю в голове.
Генри слишком устал от боли. Именно поэтому, когда незнакомец протягивает руку и тянет его от края, Генри не колеблется.
Он соглашается.
VI
29 июля 2014
Нью-Йорк
Теперь все обрело смысл.
Стало ясно, почему Генри такой.
Парень, который ни минуты не сидит на месте, не тратит время даром, ничего не откладывает на потом. Записывает за Адди каждое слово, чтобы дать ей что-то после себя. Не хочет терять ни единого дня, ведь их так мало осталось.
Парень, в которого она влюбилась. Тот, кто скоро уйдет.
– Но как? Почему ты отдал все за такую малость?
Генри устало смотрит на нее.
– В тот миг я бы согласился и на меньшее.
Год. Когда-то ему казалось, что это ужасно много. А теперь время едва ли не на исходе.
Всего год, и тот почти закончился. У Адди перед глазами стоит улыбка Люка, победная зелень его глаз. Они просто несчастные идиоты, им не повезло – он их заметил. Люк все знал, конечно, знал и позволил зайти так далеко.
Позволил ей увлечься.
– Пожалуйста, Адди, – умоляет Генри, но она уже вскакивает и направляется к выходу.
Он пытается перехватить ее руку, но слишком поздно. Адди ушла.
* * *
Три сотни лет. Адди прожила три века, и за это время земля много раз уходила у нее из-под ног, бывало, она не могла поймать равновесие или даже вдохнуть. Когда мир заставлял ее чувствовать себя сломленной, заблудившейся во мраке, потерявшей надежду.
В ночь сделки, когда она стояла возле родного дома.
В доках Парижа, где узнала цену своему телу.
Когда Реми вложил монеты в ее ладонь.
Когда, промокнув до нитки, она сидела у пня, что остался от дерева Эстель.
Но сейчас Адди не ощущает себя сломленной и потерянной. Она пылает от ярости.
Опустив руку в карман, она, конечно же, нащупывает там кольцо. Оно всегда на месте. К гладкому деревянному ободку прилипли песчинки. Адди без колебаний надевает его. Прошло сорок лет с тех пор, как она носила кольцо, но оно легко скользит на палец. В спину дует ветер, словно кто-то обдает ее прохладным дыханием, Адди поворачивается, чтобы взглянуть на Люка, но улица пуста. По крайней мере, там нет ни теней, ни богов.
Ничего.
– Покажись! – кричит она во все горло.
На нее начинают обращать внимание, но Адди плевать, скоро они все забудут. Даже не будь она призраком, это Нью-Йорк: местные привыкли к диким выходкам фриков посреди улицы.
– Проклятье, – бормочет она, срывает с пальца кольцо и швыряет на дорогу. Оно подскакивает, стуча на асфальте.
Вдруг звук затихает. Гаснет ближайший фонарь, и из темноты раздается голос:
– Столько лет прошло, а у тебя все такой же паскудный характер.
Что-то касается ее щеки, и на шее начинает мерцать тонкая, как роса, серебряная нить. Та самая, что давно оборвалась.
Люк проводит пальцами по ее коже.
– Скучала?
Развернувшись, она стряхивает его прикосновения, но руки проходят насквозь, а Люк уже стоит позади нее. Она пытается ударить еще, и на сей раз он тверд и неколебим как скала.
– Отмени все! – кричит Адди, целясь ему в грудь, но кулак едва успевает коснуться рубашки – Люк перехватывает ее запястье.
– Кто ты такая, чтобы приказывать мне, Аделин?
Она старается высвободиться, но он держит каменной хваткой.
– А помнишь, – почти небрежно заявляет Люк, – было время, когда ты униженно корчилась на лесной подстилке, умоляя за тебя заступиться?
– Хочешь, чтобы я умоляла? Прекрасно! Я тебя умоляю. Пожалуйста, прошу, отмени все!
Люк шагает вперед, заставляя ее испуганно отшатнуться.
– Генри заключил сделку.
– Он не знал…
– Все всегда знают, – качает головой Люк. – Просто им не нравится расплачиваться. Душу продать проще всего, о времени никто не думает.
– Пожалуйста, Люк…
Его зеленые глаза светятся, но отнюдь не озорством или торжеством, а властью. Как у того, кто знает, что у него все под контролем.
– Но зачем это мне? Зачем?
У Адди есть с десяток подходящих ответов. Она пытается подобрать нужные слова, чтобы умиротворить мрак, но Люк приподнимает ее подбородок и заглядывает в глаза. Адди ждет, что он снова примется дразнить, разыгрывать их привычный сценарий, спрашивать о ее душе, но тот бездействует.
– Проведи со мной ночь, – наконец говорит Люк. – Завтра. Отпразднуем годовщину должным образом. Сделай это, и я подумаю над тем, чтобы освободить мистера Штрауса от обязательств. Если, конечно, ты сумеешь меня убедить, – ехидно добавляет он.
Разумеется, это ложь. Это ловушка, но у Адди нет иного выбора.
– Я согласна, – отвечает она, и мрак с улыбкой растворяется в воздухе.
Адди в одиночестве стоит на тротуаре, ждет, пока замедлится сердцебиение, и лишь потом возвращается в «Негоциант».
Но Генри уже ушел.
* * *
Она находит его дома, где он сидит в полной темноте на краю кровати. Одеяла все еще сбиты после дневного сна. Генри безмолвно таращится куда-то в пространство, как той ночью на крыше после фейерверков. И Адди понимает: она потеряет его, как потеряла всех. Сможет ли она опять пройти через это? Только не в этот раз.
Неужели с нее не хватит потерь?
– Прости, – шепчет Генри, когда Адди подходит и запускает пальцы ему в волосы. – Мне так жаль.
– Ну почему, почему ты мне ничего не рассказал?
Генри собирается с мыслями, а потом отвечает, глядя ей в глаза:
– Как дойти до края света? Я хотел запомнить каждый шаг. – Мягкий прерывистый вздох. – Когда я учился в колледже, мой дядя заболел раком. Это оказалось смертельно. Врачи дали ему несколько месяцев, и он рассказал всем родным и знакомым. Знаешь, что они сделали? Они не выдержали – настолько были раздавлены собственным горем, что начали оплакивать его еще до того, как он умер. Невозможно игнорировать факт, что кто-то умирает. Эта мысль пожирает все нормальное, оставляя после себя одну гниль. Прости, Адди. Я не хотел, чтобы ты воспринимала меня так же.
Адди забирается в постель и тянет Генри к себе.
– Прости, – повторяет он тихо и твердо, как молитву.
Они лежат, переплетя пальцы, лицом к лицу.
– Прости.
Адди буквально заставляет себя спросить:
– Сколько тебе осталось?
– Месяц, – тяжело сглатывает Генри. Слова отрезвляют, будто пощечина на нежной коже. – Ну, чуть больше. Тридцать шесть дней.
– Уже полночь, – шепчет Адди.
– Значит, тридцать пять, – выдыхает Генри.
Она прижимает его к себе и обнимает, и он в ответ обнимает ее. Они держатся друг за друга так крепко, что становится больно, словно боятся, что их разлучат или другой выскользнет из рук и исчезнет.
VII
23 ноября 1944
Оккупированная Франция
Адди ударяется спиной о каменную стену.
Дверь камеры с громким стуком закрывается, Адди падает на пол, кашляя кровью. По ту сторону решетки заливаются хохотом немецкие солдаты.
Из угла, где скрючились несколько мужчин, доносится бормотание. По крайней мере, сокамерникам плевать, что Адди женщина. А вот немцы это заметили, хотя поймали ее в невзрачных штанах и куртке и с зачесанными назад волосами. По их хмурым и ухмыляющимся физиономиям Адди поняла, что они определили ее пол. На десяти разных языках Адди объяснила солдатам, что сделает, посмей они приблизиться, но те лишь засмеялись и от души ее отдубасили.
«Поднимайся», – приказывает она измученному телу.
«Поднимайся», – велит усталым костям.
Адди заставляет себя встать на ноги и доковылять до решетки. Сжимает руками холодную сталь, отчаянно трясет изо всех сил, пока мускулы не начинают ныть. Прутья стонут, но не поддаются. Адди до крови царапает болты, и солдат лупит кулаком по решетке, угрожая пустить строптивую заключенную на растопку.
Она такая дура!
С чего Адди взяла, что все получится? Решила, будто забвение – то же самое, что невидимость, и оно поможет ей остаться незамеченной. Зря она покинула Бостон: самое страшное, о чем там приходилось волноваться, это военные пайки и зимний холод. Вообще не стоило возвращаться во Францию. Дурацкая честь, упрямая гордыня. В предыдущую войну Адди сбежала, переплыла Атлантику, вместо того, чтобы встретить опасность дома. Ведь Франция для Адди почему-то всегда означала именно это – дом.
Дом.
В какой-то момент Адди решила, что может помочь. Разумеется, неофициально, но у тайн нет владельцев. Делиться ими мог кто угодно, даже призрак.
Самое главное – не попасться.
Три года Адди переправляла военные секреты через оккупированную Францию. Три года – и в итоге оказалась за решеткой. В каменном застенке неподалеку от Орлеана.
Неважно, что они ее забудут. Это не имеет никакого значения – солдаты и не пытаются запомнить заключенных. Здесь все лица странные, чужие и безымянные, так что если Адди не выберется, она исчезнет.
Адди прислоняется к ледяной стене, тщетно кутаясь в драную куртку, и закрывает глаза. Она не молится, вернее, не совсем, просто думает о нем. Возможно, даже жалеет, что сейчас не лето, не июльская ночь, когда он сам бы ее нашел.
Солдаты довольно грубо ее обыскали и отобрали все представляющее хоть минимальную угрозу – с помощью чего она бы могла их ранить или сбежать. Кольцо забрали тоже, оборвав кожаный шнурок, на котором оно висело, и куда-то выбросили.
Однако, покопавшись в своих лохмотьях, Адди нащупывает деревянный ободок в складках кармана. Она рада, что кольцо нельзя потерять, и с благодарностью подносит его к пальцу.
На мгновение Адди колеблется – кольцо у нее уже двадцать девять лет со всеми сопутствующими обязательствами. За двадцать девять лет она ни разу им не воспользовалась.
Но сейчас даже самодовольная ухмылка Люка предпочтительнее вечности в тюремной камере или еще чего похуже.
Конечно, если он вообще явится.
Шепот отдается в ее памяти, страх, от которого не избавиться, Чикаго – как комок желчи в глотке.
В груди Адди горит гнев. В глазах Люка – яд.
Она ошибалась.
Ей вовсе не хочется быть таким призраком.
И впервые за прошедшие столетия Адди возносит мольбу.
Она надевает кольцо на палец и, затаив дыхание, чего-то ждет – вихря волшебства, порыва ветра.
Но ничего не происходит…
Ничего, и Адди принимается размышлять – а может быть, после стольких лет это лишь очередная уловка, способ разжечь огонь надежды, только чтобы потом его погасить, рассчитывая, что тот потухнет окончательно?
Она уже готова разразиться проклятиями, как вдруг в камеру врывается ветерок. Он не ледяной, кусачий, а теплый, несущий с собой запах далекого лета.
Узники в противоположном углу смолкают, сбившись в кучу. Обмякнув, они таращатся в пространство перед собой, словно над чем-то раздумывают. Снаружи затихли шаги солдат, подошвы не стучат по камням, замерла немецкая речь, голоса утонули в тишине, как галька в колодце.
Повисло странное, непостижимое безмолвие, остался единственный звук – негромкое постукивание пальцев по решетке.
Адди не виделась с ним со времен Чикаго.
– Ах, Аделин, – вздыхает Люк, поглаживая ледяные прутья, – только взгляни на себя, в каком ты виде…
Адди издает болезненный смешок.
– Бессмертие развивает необычайно спокойное отношение к опасности.
– Есть вещи и похуже смерти, – замечает Люк, словно Адди без него этого не знает. Он оглядывает тюрьму, скорчив презрительную мину: – Эти войны…
– Только не говори, что ты им помогаешь.
Люк принимает едва ли не оскорбленный вид.
– Даже у меня есть предел.
– Как-то ты хвастался передо мной успехами Наполеона.
– Умей отличать амбиции от истинного зла, – пожимает плечами Люк. – Ну, довольно об этом. Как бы мне ни хотелось продолжить список моих подвигов, сейчас на кону твоя жизнь, – заявляет он, опираясь на решетку. – Как ты собираешься отсюда выбираться?
Адди знает, чего он от нее хочет: чтобы она умоляла. Как будто надеть кольцо недостаточно. Как будто он еще не выиграл эту партию, эту игру. У Адди нутро завязалось в узел, отбитые ребра разболелись, и так разыгралась жажда, что она готова заплакать, лишь бы раздобыть немного воды. Но Адди никак не может себя заставить.
– Ты же меня знаешь, – устало улыбается она, – что-нибудь да придумаю.
– Ну как хочешь, – вздыхает Люк и поворачивается спиной.
Этого довольно; мысль о том, что он покинет ее здесь одну, невыносима.
– Постой, – отчаянно зовет она, бросаясь к решетке, и дверь вдруг поддается – замок не заперт.
Люк, почти улыбаясь, смотрит на нее через плечо. Слегка повернувшись, он протягивает ей руку. Адди, спотыкаясь на ходу, вырывается из камеры на свободу и врезается прямо в него. На мгновение эти объятия, его теплое, твердое тело, окутывающее ее в темноте, дают иллюзию, что все настоящее, а Люк – человек. На мгновение она чувствует себя с ним как дома.
Но мир сразу же раскалывается, и тени поглощают их без остатка.
Вместо тюрьмы вокруг снова пустота, чернота и необъятная тьма. А когда все заканчивается, Адди вдруг оказывается в Бостоне. Солнце только начинает клониться к закату, от облегчения ей хочется целовать землю. Адди плотнее кутается в куртку и бессильно опускается на обочину. Ноги дрожат, на пальце по-прежнему надето деревянное кольцо. Она позвала, и он пришел. Адди знает, что это еще аукнется, но сейчас ей абсолютно наплевать. Она просто не хочет оставаться одна.
Но когда Адди поднимает голову, чтобы поблагодарить, Люка уже нет.
VIII
30 июля 2014
Нью-Йорк
Адди собирается, а Генри таскается следом за ней по всей квартире.
– Зачем ты согласилась? – то и дело повторяет он.
Потому что Адди знает мрак лучше, чем кто-либо, понимает его образ мыслей, если не чувства.
– Потому что не хочу тебя потерять, – говорит Адди, взъерошивая волосы.
У Генри усталый, опустошенный вид.
– Уже слишком поздно, – тяжело вздыхает он.
Еще не поздно. Пока нет.
Адди нащупывает в кармане кольцо: как всегда, оно лежит на месте и ждет своего часа. Дерево согрето теплом ее тела. Она вытаскивает его, но Генри перехватывает ее руку.
– Не делай этого, – умоляет он.
– Ты хочешь умереть? – спрашивает она, и слова чересчур громко разносятся по комнате.
Генри немного уступает:
– Нет. Но я сделал свой выбор, Адди.
– Ты сделал ошибку.
– Я заключил сделку. Мне очень жаль. Жаль, что я не попросил больше времени. Жаль, что раньше не рассказал тебе правду. Но что есть – то есть.
Адди упрямо качает головой:
– Может, ты и смирился, Генри, а я нет.
– Ничего не выйдет. Тебе его не переубедить.
Адди вырывается из его хватки.
– А я хотя бы попробую, – заявляет она, надевая кольцо.
Но тьма не сгущается вокруг, только тишина повисает в доме, а затем…
Раздается негромкий стук.
Адди рада, что Люк не ворвался сам. Генри с умоляющим взглядом встает в проходе, упираясь руками в стены и преграждая путь к двери. Подойдя ближе, Адди обхватывает ладонями его лицо.
– Доверься мне, – умоляюще просит она.
И решимость Генри ослабевает. Он роняет руку вниз, пропуская ее. Поцеловав его, Адди подходит к двери и открывает дверь мраку.
– Аделин.
На лестничной площадке многоквартирного дома Люк должен бы выглядеть неуместно, но это не так. Настенные лампы немного потускнели, свет льется мягкий, туманно-желтый, создавая вокруг черных кудрей ореол и бросая золотистые блики на зеленые глаза.
Он весь в черном, в идеально сидящих брюках и рубашке на пуговицах. Рукава закатаны до локтей, черный шелковый галстук прихвачен у горла изумрудной булавкой. Для такого наряда на улице слишком жарко, однако Люка, кажется, это не заботит. Жара, как и дождь, да, наверное, и сам мир, не имеет над ним власти.
Он не говорит Адди, что она чудесно выглядит.
Вообще ничего не произносит.
Просто поворачивается к лестнице, ожидая, что Адди последует за ним.
Она выходит на площадку, а Люк бросает взгляд на Генри. И подмигивает ему.
Лучше бы Адди остановилась прямо там! Развернулась и дала Генри затащить себя в квартиру. Нужно было захлопнуть дверь и закрыть ее на все замки.
Но они этого не сделали.
Адди оглядывается через плечо на Генри, который с мрачным видом смотрит им вслед, прислонясь к дверному проему. Ей хочется, чтобы он закрыл дверь, но Генри не двигается с места, и не остается ничего, кроме как уходить с Люком под его взглядом.
Внизу Люк придерживает для нее дверь, но Адди вдруг останавливается, глядя на порог. В проеме перед ступеньками, ведущими на улицу, клубится мгла. Адди не доверяет теням, ведь непонятно, куда они приведут. Ей совершенно не хочется, чтоб Люк забросил ее в какую-нибудь далекую страну, если (когда) вечер пройдет плохо.
– Сегодня я ввожу правила, – предупреждает Адди.
– Неужели?
– Мы не покинем город, – продолжает она, кивая на дверь. – И я туда не пойду.
– Через порог?
– Через тьму.
– Ты мне не доверяешь? – удивленно приподнимает брови Люк.
– Никогда не доверяла. К чему сейчас начинать?
Люк беззвучно смеется и выходит на улицу, чтобы поймать машину. Мгновением позже у тротуара тормозит блестящий черный седан.
Люк протягивает руку, предлагая Адди помочь забраться внутрь, но она обходится без его помощи.
Он не называет водителю адрес.
Тот его и не спрашивает.
А когда Адди интересуется, куда они направляются, Люк оставляет вопрос без ответа.
Вскоре они уже катят по Манхэттенскому мосту.
Молчание, что воцаряется между ними, должно быть неловким. Прерванный разговор бывших, которые слишком долго прожили в разлуке, но все же недостаточно долго, чтобы друг друга простить.
Что такое сорок лет против трехсот?
Но это стратегическое молчание. Тишина, которая наступает во время разыгрываемой шахматной партии.
И на сей раз Адди намерена выиграть.
IX
7 апреля 1952
Лос-Анджелес, Калифорния
– Боже, ты восхитительна! – восклицает Макс, поднимая бокал.
Адди краснеет, опуская взгляд на свой мартини.
Они встретились на бульваре Уилшир сегодня утром. Казалось, кожа Адди еще хранит отпечаток его простыней. Она расхаживала по тротуару в платье винного цвета – любимом платье Макса. Тот вышел на утреннюю прогулку, увидел ее, остановился и спросил – нельзя ли и ему пройтись с ней, неважно, куда она направляется. Когда они добрались до места назначения – симпатичного здания, выбранного наугад, – поцеловал Адди руку и попрощался, но не ушел, и она не ушла. Весь день они провели вместе. Бродили от чайной лавки к парку, затем в музей искусств и всякий раз находили оправдания не расставаться.
А потом Адди призналась ему, что это был ее лучший день рождения за долгие годы, а он, представив, что такая девушка останется одна, в ужасе на нее уставился.
И вот они уже пьют мартини в отеле «Рузвельт».
(Разумеется, никакого дня рождения у нее сегодня нет, Адди и сама не понимает, зачем об этом сболтнула. Может, просто посмотреть, что придумает Макс. Или ей стало скучно еще раз проживать ту же самую ночь.)
– Иногда встречаешь человека впервые, а кажется, что знаешь его сто лет. Бывало с тобой такое?
Адди улыбается.
Он всегда говорит одно и то же и всякий раз о них. Адди поигрывает серебряной нитью на шее, деревянное кольцо прячется за вырезом платья. Привычка, от которой она никак не может отделаться.
У столика возникает официант с бутылкой шампанского.
– Что это? – удивляется Адди.
– За твой день рождения и мою удачу, раз уж мне повезло провести этот чудесный вечер с тобой, – сияет Макс.
Адди восхищена крошечными пузырьками, поднимающимися со дна бокала. Еще не пригубив, она знает – шампанское превосходно. Дорогое, выдержанное. Знает Адди и то, что Макс легко может позволить себе подобную роскошь.
Он скульптор – Адди всегда питала слабость к искусству, – притом талантливый, но не из тех, что без гроша. В отличие от многих талантливых людей, с которыми доводилось встречаться Адди, Макс при деньгах. Семейные капиталы пережили две войны и голодные годы между ними.
Макс поднимает бокал, и на стол падает чья-то тень.
«Наверное, официант», – рассеянно думает Адди, но Макс смотрит на подошедшего и хмурится:
– Могу я вам чем-то помочь?
И следом раздается голос – нежный, как шелк, дурманящий, как дым:
– Полагаю, можете. – Возле их столика в элегантном черном костюме стоит Люк. Как всегда, он прекрасен. – Здравствуй, дорогая.
Макс мрачнеет:
– Вы знакомы?
– Нет, – отвечает она, но Люк в то же время произносит:
– Да.
Увы, несправедливо, что его голос слышен, а ее – нет.
– Старый друг, – бросает Адди, прикусывая язык. – Но…
И Люк вновь ее перебивает:
– Но мы давно не виделись, поэтому, если не возражаете…
– Это совершенно неуместно… – ощетинивается Макс.
– Убирайся.
Всего одно слово, но воздух от его силы идет рябью, легкой дымкой окутывает Макса. Его сопротивление тает, раздражение сглаживается, глаза становятся остекленевшими. Он поднимается из-за столика и уходит, даже ни разу не оглянувшись.
– Проклятье, – бормочет Адди, откидываясь на спинку стула.
Люк опускается на свободное место и наливает в бокалы шампанское.
– У тебя день рождения в марте.
– Доживи до моего возраста, будешь праздновать, когда вздумается.
– И долго ты с ним?
– Два месяца. Не так уж плохо, – пожимает плечами Адди, отпивая игристое. – Он влюбляется в меня каждый день.
– И забывает каждую ночь.
Слова ранят, но не так сильно, как обычно.
– По крайней мере, с ним я не скучала.
Изумрудный взгляд скользит по ее телу.
– И со мной бы не скучала, если бы захотела.
К щекам Адди приливает жар.
Не может же он знать, что она скучала по нему. Представляла его на месте своего незнакомца одинокими ночами в постели. Вспоминала всякий раз, когда поигрывала кольцом на шее, и всякий раз, когда намеренно его не касалась.
– Что ж, – говорит Адди, допивая шампанское, – ты испортил мне свидание. Так что можешь хотя бы попытаться восполнить ущерб.
Зелень в глазах Люка снова становится ярче.
– Идем, – говорит он, помогая ей подняться с кресла. – Ночь только началась, найдем развлечение поинтереснее.
* * *
В «Цикада клаб» кипит жизнь.
С блестящего потолка низко свешиваются сияющие люстры в стиле ар-деко. В ложу ведет лестница с красной ковровой дорожкой. Столики покрыты льняными скатертями, перед невысокой сценой – отполированный танцпол.
Они приходят, как раз когда духовой оркестр заканчивает играть и по залу проносятся отголоски труб и саксофона. В клубе людно, но Люк ведет ее через толпу к единственному свободному столику у сцены. Самому лучшему.
Они занимают места, и тут же подскакивает официант с двумя мартини на подносе. Адди приходит на память, как пару столетий назад они впервые ужинали в особняке маркиза: еда была готова еще до того, как она согласилась разделить с Люком трапезу. Интересно, планировал ли он и этот вечер заранее, или просто мир прогибается, исполняя пожелания тьмы?
Толпа взрывается аплодисментами: на сцену выходит новый артист, худощавый мужчина с бледным лицом и тонкими бровями. На лоб надвинута серая шляпа.
Люк смотрит на него с неподдельной гордостью владельца.
– Кто это? – спрашивает Адди.
– Синатра.
Оркестр встает, и мужчина начинает петь. Его песня, плавная и мелодичная, льется по залу. Адди завороженно вслушивается. Гости парами выходят на танцпол.
Адди тоже встает и протягивает руку:
– Потанцуй со мной.
Люк внимательно смотрит на нее, но не делает попытки подняться.
– А Макс бы потанцевал!
Она думает, что он откажется, но Люк поднимается, берет ее за руку и ведет на танцпол.
Она думает, он будет скованным и неподатливым, но Люк двигается с плавной грацией ветра, летящего по пшеничному полю, или бури, разыгравшейся в летнем небе.
Адди пытается припомнить, были ли они хоть раз так близки, и не может. Они всегда соблюдали дистанцию.
А теперь пропасть между ними исчезла.
Его тело окутывает ее мягким покрывалом, словно ветер, словно сама ночь. Сегодня Люк не кажется порождением тени и дыма – его мускулы тверды, его голос обдает дыханием волосы Адди.
– Даже если бы все, кого ты встречала, тебя помнили, я все равно знал бы тебя лучше.
Адди всматривается в его лицо:
– А я тебя знаю?
Он склоняется к ней ниже:
– Только ты и знаешь.
Их тела прижаты друг другу, они идеально совпадают.
Его плечо вылеплено для ее щеки.
Руки созданы, чтобы обнимать талию Адди.
Голос Люка заполняет пустоту в ее душе:
– Я хочу тебя. Всегда хотел.
Он смотрит на нее сверху вниз, зеленые глаза потемнели от удовольствия.
– Я нужна тебе просто как некий приз, – старается отстоять свое Адди. – Как пища или бокал вина – ты хочешь меня поглотить.
Он опускает голову, прижимаясь губами к ее ключице.
– Это так ужасно?
Люк целует ее горло, и Адди пытается подавить дрожь.
– Неужели это так плохо, – спрашивает он, скользя губами по ее подбородку, – когда тобой наслаждаются? – Дыхание обжигает ей ухо. – Когда тебя вкушают?
Люк опускает рот на ее губы, тот тоже словно создан для нее.
Адди так и не поймет, кто кого поцеловал первым – она его или он ее, – кто начал поцелуй и кто на него ответил. Знает одно – между ними была дистанция, и она исчезла. Разумеется, Адди и раньше представляла, как целует Люка, еще в ту пору, когда он был порождением ее разума, и потом, когда он стал собой. Но в воображении Люк всегда целовал ее, будто забирал законную добычу в конце концов именно так он целовал Адди в ночь сделки – до крови на губах. Адди думала, что такими и останутся его ласки.
Однако Люк целует ее так, словно дегустирует яд.
Осторожно, вопрошающе, почти боязливо.
И только когда она отвечает, Люк углубляет ласку, скользя зубами по нижней губе, прижимаясь к Адди всем жарким телом.
На вкус он как ночной воздух, пьянящий запахом летних гроз, с легким оттенком древесного дыма, костра, что затухает в ночи. Он пахнет лесом и почему-то, к ее удивлению, домом.
И внезапно вокруг нее – вокруг них – смыкается тьма, и «Цикада Клаб» исчезает. Негромкую музыку и голос певца сметает давящая пустота, резкий порыв ветра, колотящийся в ушах пульс. Адди, сделав единственный шаг назад, падает в вечность, а потом ее ноги нащупывают гладкий мраморный пол комнаты в отеле. Люк стискивает ее, толкает вперед, и она послушно откидывается на ближайшую стену, увлекая его за собой.
Он поднимает руки, заключая Адди в клетку своих объятий.
Если постараться, эту клетку можно легко сломать.
Адди даже не пытается.
Он снова целует ее, и на сей раз вовсе не боязливо. На сей раз в его действиях нет ни осторожности, ни готовности отступить. Поцелуй внезапный, резкий и глубокий, он лишает воздуха и мыслей, оставляя только жажду, и на какой-то миг Адди ощущает мрак, который зияет вокруг нее, хотя ногами она все еще стоит на земле.
Адди доводилось целовать многих, но так не целовался никто. Дело даже не в технической стороне вопроса. Дело даже не в идеальной форме рта Люка, дело в том, как он им пользуется.
Это как есть персики не в сезон и затем вкусить созревший на солнце плод. Или видеть жизнь в черно-белых тонах, а потом узреть полноцветное изображение.
Поначалу это своего рода борьба, когда оба еще держат оборону, выискивая скрытое жало клинка, готового вонзиться в плоть. А потом наконец поддаются, бросаясь навстречу друг другу с силой слишком долго разделенных тел.
Их слияние – битва на простынях.
К утру следы этой битвы разбросаны по всей комнате.
– Какое странное ощущение: мне не хочется уходить, – признается Люк. – Давно я такого не испытывал.
Адди бросает взгляд в окно, где тонкой полоской занимается рассвет.
– Тогда не уходи.
– Я должен. Ведь я принадлежу тьме.
Адди подпирает голову рукой:
– Так ты исчезнешь, когда взойдет солнце?
– Я просто уйду туда, где темно.
Адди встает, подходит к окну и задергивает шторы, погружая комнату во мрак.
– Ну вот, – говорит она, пробираясь к нему на ощупь. – Теперь снова темно!
Люк смеется тихим чудесным смехом и опять притягивает ее на постель.
X
1952–1968
Везде, нигде
Это просто секс.
По крайней мере, с него все началось. Люк для нее как зараза, которую нужно вывести из организма. Она же для него – новая игрушка для развлечения.
Адди почти надеялась, что они сожгут все чувства за одну ночь, потратят энергию, которую накопили за годы, пока описывали круги друг возле друга.
Но два месяца спустя он отыскал Адди снова, появился из ниоткуда и вошел в ее жизнь. Это так странно – видеть Люка с наброшенным на шею шарфом среди опадающих листьев в красно-золотые осенние дни.
Через пару недель он опять ее навестил. А потом – еще через несколько дней.
Столько лет одиноких ночей, часов ожидания, ненависти и надежды. И вот наконец он рядом.
И все же в промежутках между его визитами Адди дает себе обещания.
Она не задержится надолго в его объятиях.
Не заснет вместе с ним.
Не будет чувствовать ничего, кроме его губ на своей коже, его рук, переплетенных с ее руками, его веса на своем теле.
Крошечные обещания, и ни одно из них она не выполняет.
Это просто секс.
Который потом вдруг превращается в нечто большее.
– Поужинай со мной, – говорит Люк, когда весна сменяет зиму.
– Давай потанцуем, – предлагает он в канун Нового года.
– Будь со мной, – наконец просит он, когда одно десятилетие перетекает в другое.
Однажды ночью она просыпается в темноте от того, что Люк рисует кончиками пальцев узоры на ее теле. Адди до глубины души поражает его взгляд. Нет, не взгляд, а узнавание.
Она впервые проснулась с кем-то, кто ее не забыл. Впервые услышала свое имя после перерыва на сон. Впервые не почувствовала себя одинокой.
И что-то внутри нее разбивается вдребезги.
Адди больше не испытывает к нему ненависти. И уже давно.
Она не знает, когда начались перемены, случилось ли это в какой-то определенный момент, или, как предупреждал Люк, границы размылись постепенно.
Адди знает одно – она очень устала, а с ним ее ждет отдых.
И почему-то она счастлива.
Но это не любовь.
Каждый раз, как Адди понимает, что забывается, она прижимается ухом к его обнаженной груди, ловя биение жизни, дыхание, но слышит лишь тишину ночного леса и летние шорохи. Напоминание, что сам Люк – обман, что его лицо и тело просто маскировка.
Что он не человек и это не любовь.
XI
30 июля 2014
Нью-Йорк
За окном летят виды города, но Адди не поворачивает голову, не желает восхищаться небоскребами Манхэттена, высотками, что вздымаются по обе стороны дороги. Она разглядывает Люка и его отражение в затемненном стекле, линию подбородка, дуги бровей – все, что нарисовала собственной рукой долгие годы назад. Наблюдает за ним, как наблюдают за волком на опушке чащи: что же тот будет делать?
Люк первым нарушает молчание. Первым делает ход.
– Помнишь оперу в Мюнхене?
– Я помню все, Люк.
– Ты так смотрела на артистов на сцене, словно никогда раньше не бывала в театре.
– В таком – не бывала.
– При виде чего-то нового твои глаза наполнялись таким удивлением… Тогда я и понял, что мне не победить.
Эти слова хочется смаковать, как глоток хорошего вина, но привкус винограда набивает во рту оскомину. Адди не доверяет Люку.
Авто останавливается возле «Ле Куку» – прекрасного французского ресторана в нижней части Сохо. Снаружи по стенам вьется плющ. Адди уже ужинала здесь раньше, где подают два лучших блюда из всех, что она пробовала в Нью-Йорке. Интересно – знает ли Люк, как ей нравится этот ресторан, или у них просто совпал вкус?
И снова он подает ей руку.
И снова она ее не принимает.
К дверям ресторана приближается пара, выясняет, что тот закрыт, и удаляется прочь, пробормотав что-то о бронировании. Но когда руку на ручку двери кладет Люк, та легко распахивается.
Внутри с высокого потолка свисают массивные люстры, в блестящие окна заглядывает ночная тьма. Заведение выглядит огромным, в нем спокойно могла бы разместиться сотня гостей, но сегодня в зале пусто, только в открытой кухне колдуют два повара, а у стойки застыла пара официантов и метрдотель. При приближении Люка последний низко кланяется.
– Месье Дюбуа, – бормочет он полусонным голосом, – мадмуазель.
Он провожает их к столику на двоих, где перед каждым бокалом алеет роза, и отодвигает стул для Адди. Люк смиренно ждет, пока она займет свое место, и лишь потом устраивается сам. Метрдотель откупоривает бутылку мерло.
– За тебя, Аделин, – подняв свой бокал, провозглашает Люк.
Меню нет, никто не принимает заказ. Просто приносят тарелки.
Фуа-гра с вишней, террин из кролика. Палтус в соусе «бер-блан» и свежеиспеченный хлеб, а также несколько сортов сыра.
Еда, разумеется, превосходна.
Пока Адди и Люк насыщаются, возле бара ждут метрдотель и официанты с распахнутыми пустыми глазами и безжизненными лицами.
Именно эта сторона его силы и то, как небрежно он с ней обращается, всегда казалась Адди невыносимой.
Она слегка наклоняет бокал в сторону марионеток.
– Отпусти их.
Люк покоряется. Легкий жест, и слуги исчезают. Адди и Люк остаются одни в пустом ресторане.
– А со мной бы ты такое сделал? – спрашивает она.
– Я не могу, – качает головой Люк, и Адди удивляется: неужели он ее так бережет? Однако следует продолжение: – У меня нет власти над обещанными душами. Они действуют по собственной воле.
Слабое утешение, но хоть что-то.
Люк смотрит в свой бокал. Покручивает ножку в пальцах, и там, в затемненном стекле, Адди видит их отражение – они лежат на смятых шелковых простынях, ее пальцы ерошат его волосы, руки Люка выписывают узоры на ее коже.
– Скажи, Аделин, ты по мне скучала?
Конечно скучала.
Она может убеждать себя, как убеждала и его, что ей лишь хотелось, чтобы ее видели. Что ей недоставало его внимания, его пьянящих визитов – но дело не только в этом. Она тосковала по нему, как тоскуют зимой без солнца люди, которые даже не любят жару. Скучала по звуку его голоса, по умелым прикосновениям, по жарким спорам, по тому, как они подходили друг другу.
Люк – центр ее притяжения.
Триста лет ее истории.
Единственная константа в жизни Адди, тот, кто всегда, всегда будет ее помнить.
Люк – мужчина, о котором она мечтала в юности. Которого потом всей душой возненавидела, а после – полюбила. Адди скучала по нему каждую ночь, когда Люк ее покидал. Он не заслужил радости от ее страданий, потому что это была полностью его вина. Из-за него Адди не помнили, из-за него она теряла, теряла и еще раз теряла. Люка Адди не упрекала – это ничего бы не изменило, к тому же у нее еще кое-что осталось. Крошечный кусочек ее истории, который она сумела уберечь.
Генри.
Поэтому Адди делает ход.
Потянувшись через стол, она берет Люка за руку и говорит чистую правду:
– Конечно скучала.
При этих словах зеленые глаза меняют цвет. Он гладит кольцо на ее пальце, обводит узоры на дереве.
– Сколько раз ты почти надевала его? – задумчиво спрашивает Люк. – Часто ли думала обо мне?
Ей кажется, он хочет ее подловить, но Люк шепчет:
– Потому что я думал о тебе. Всегда.
В воздухе между ними проскакивают слабые разряды грома.
– Но ты не пришел.
– Ты не позвала.
Она опускает взгляд на их переплетенные руки.
– Скажи, Люк, а было ли в этом хоть что-то реальное?
– Что ты считаешь реальностью, Аделин? Ведь моя любовь для тебя ничего не значит.
– Ты неспособен любить.
Люк хмурится, и его взгляд вспыхивает изумрудными искрами.
– Потому что я не человек? Потому что не могу состариться и умереть?
– Нет, – отзывается Адди, забирая руку. – Ты неспособен любить, поскольку не знаешь, что такое заботиться о ком-то больше, чем о самом себе. Если бы ты любил меня, я бы уже была свободна.
– Что за вздор, – раздраженно щелкает пальцами Люк. – Я не отпускаю тебя как раз потому, что люблю. Любовь алчна. Любовь эгоистична.
– Ты говоришь о страсти.
Люк пожимает плечами.
– А они так отличаются? Я видел, что люди делают с любимыми вещами.
– Люди – не вещи, Люк. И ты никогда их не поймешь.
– Зато я понимаю тебя, Аделин. Я знаю тебя лучше, чем кто-либо во всем мире.
– Просто ты никого больше ко мне не подпустил. – Адди вздыхает, пытаясь успокоиться. – Я знаю, что меня ты не пощадишь. Возможно, ты прав – мы принадлежим друг другу. Но если ты меня хоть немного любишь, освободи Генри Штрауса. Если любишь меня – отпусти его.
Лицо Люка искажает гнев.
– Это наш вечер, Аделин! Не порти его болтовней о других.
– Но ты сказал…
– Идем! – приказывает он, отталкивая стол. – Этот ресторан мне больше не по душе.
Официант как раз только что поставил на стол грушевый тарт, но лакомство вмиг сгорает до пепла, и Адди, как всегда, дивится капризам богов.
– Люк… – начинает она, но тот уже, поднявшись, швыряет на испорченное блюдо салфетку.
XII
29 июля 1970
Новый Орлеан, Луизиана
– Я люблю тебя.
Он говорит ей это за ужином в тайном баре Французского квартала – одном из многих своих проектов.
Адди качает головой. И как это слова не обратились в пепел прямо у Люка рту?
– Не притворяйся, будто это любовь.
На лице Люка мелькает раздраженная гримаса.
– И что же тогда, по-твоему, любовь? Расскажи мне. Убеди, что твое сердце не трепещет при звуках моего голоса. Что оно не сжимается, когда мои губы произносят твое имя.
– Оно трепещет от моего имени, а не от твоего голоса.
Уголки губ Люка приподнимаются вверх, глаза горят изумрудным огнем. От удовольствия он оживляется.
– Возможно, когда-то так и было, но теперь это нечто большее.
Адди боится, что он прав.
А потом Люк ставит перед ней коробку. Простую черную коробку размером не больше ее ладони.
Сначала Адди к ней не притрагивается.
– Что там? – спрашивает она.
– Подарок.
Адди не торопится брать его в руки.
– Ну же, Аделин, – ворчит Люк, забирая свой дар, – она тебя не укусит.
Он открывает крышку и ставит перед ней. Внутри лежит простой латунный ключ.
Адди интересуется, от чего он.
– От дома, – просто отвечает Люк.
Адди застывает. Своего дома у нее не было со времен Вийона. На самом деле не было даже своего угла, и она испытывает прилив благодарности, пока не вспоминает, что именно Люк за это в ответе.
– Не дразни меня, Люк.
– Я не дразню.
Он берет ее за руку и ведет через Французский квартал к дому в конце Бурбон-стрит – желтому особняку с балконами и окнами в пол. Адди вставляет ключ в замочную скважину – раздается глухой щелчок. Если бы дом принадлежал Люку, а не Адди, дверь просто распахнулась бы от легчайшего прикосновения. Внезапно латунный ключ в руке становится тяжелым, настоящим. Драгоценным.
За дверью – высокие потолки и деревянный пол, мебель, шкафы и пустые комнаты, которые предстоит обставить. Адди выходит на балкон, слушая, как во влажном воздухе разливается разноголосье Французского квартала. По улице струится необыкновенный джаз, мелодии накладываются одна на другую, переливчатые, живые.
– Это твой дом, – говорит Люк, и кости Адди ноют от старого предчувствия.
Но теперь эти ощущения всего лишь затухающий маяк, свет которого слишком далеко от порта.
Люк притягивает ее спиной к себе, и Адди в который раз замечает, как идеально подходят друг другу их тела. Он словно создан специально для нее.
Впрочем, это на самом деле так. Его тело, лицо, черты и правда созданы, чтобы она расслабилась, почуяла запах свободы.
– Пойдем прогуляемся, – зовет Люк.
Адди хочет остаться дома, начать обживать его, но Люк убеждает, что у них предостаточно времени и всегда будет достаточно. На сей раз мысль о вечности ее не пугает. Дни и ночи отныне не тянутся, а мчатся вперед.
И Адди знает – что бы это ни было, оно не продлится долго.
Просто потому, что так не бывает.
Ничто не длится вечно.
Но прямо сейчас она счастлива.
Рука в руке они бредут по Французскому кварталу. Люк закуривает сигарету, и Адди говорит, что табак ужасно вредит здоровью, а он принимается беззвучно смеяться, выпуская дым.
У одной из витрин Адди замедляет шаг.
Магазин, конечно, уже закрыт, но даже в неосвещенной витрине видно манекен в черной кожаной куртке с серебряными пряжками.
Рядом с отражением Адди возникает отражение Люка. Он прослеживает ее взгляд.
– На улице лето, – замечает он.
– Оно же не навсегда.
Люк кладет руки ей на плечи, и Адди чувствует, как их облегает мягкая кожа. Манекен в витрине остается голым; Адди отмахивается от мыслей о годах, когда она страдала от холода, о тех временах, когда приходилось скрываться, драться и воровать. Она старается об этом не думать, но думает.
Уже на полпути к желтому особняку Люк вдруг сворачивает в сторону.
– У меня дела. Иди домой.
Он уходит, а в ее груди барабаном гремит слово – дом.
Но Адди не спешит домой, она отправляется следом за Люком.
Он заворачивает за угол, пересекает улицу и подходит к магазину. На двери люминесцентной краской нарисована ладонь. Адди ныряет в тень.
На тротуаре, склонясь над связкой ключей, стоит старушка, собираясь закрывать магазин. С локтя у нее свисает большая сумка.
Должно быть, она слышит шаги, потому что негромко предлагает посетителю зайти завтра. А потом вдруг поворачивается и видит Люка.
Адди тоже на него смотрит: он отражается в стеклянной витрине. И выглядит иначе, чем показывается ей. Должно быть, таким его видит та старушка. Его кудри по-прежнему черные, но лицо стало более худощавым, по-волчьи заострилось, глаза запали, а руки превратились в нечеловечески тонкие плети.
– Уговор есть уговор, – произносит он, и слова словно повисают в воздухе. – Твой срок вышел.
Адди следит. Ей кажется, женщина примется умолять, попытается сбежать…
Но та опускает сумку на землю и задирает подбородок.
– Уговор есть уговор. И я устала.
Удивительно, но так еще хуже.
Потому что Адди ее понимает.
Потому что она тоже устала.
Мрак тем временем снова становится непроглядным.
Последний раз его настоящий образ Адди видела больше ста лет назад – этот катящийся гребень тьмы со всеми его зубами. Но на сей раз он не разрывает несчастную, не пугает, не неистовствует.
Он просто окутывает старуху порывом ветра, заслоняя свет.
Адди отворачивается.
Она возвращается в желтый особняк на Бурбон-стрит и наливает себе бокал вина. Белого, прохладного, терпкого. Жара стоит невероятная. Балконные двери распахнуты настежь навстречу летней ночи. Адди облокачивается на перила и слышит, как возвращается Люк. Но не через парадный вход, как пришел бы возлюбленный, а сразу возникает в комнате за ее спиной.
И когда его руки ложатся на плечи Адди, она вспоминает, как он обнял ту женщину у магазина, как окутал ее и поглотил целиком.
XIII
30 июля 2014
Нью-Йорк
За время прогулки настроение у Люка немного поднимается.
Ночь выдалась теплая, луна почти не видна. Он запрокидывает голову и глубоко вдыхает, насыщаясь воздухом, хотя от жары тот затхлый, словно в небольшом пространстве заперли кучу людей.
– Давно ты здесь? – спрашивает Адди.
– То прихожу, то ухожу, – туманно отвечает Люк, но она привыкла читать между строк и догадывается, что он пробыл в Нью-Йорке столько же, сколько она, тенью бродя за ней по пятам.
Адди не знает, куда они направляются, и впервые задумывается – а знает ли Люк? Или он просто шагает, стараясь выторговать время до конца вечера?
Они приближаются к центру, и Адди чувствует, как время сжимается вокруг них. Магия ли это Люка или ее память, но с каждым кварталом она видит, как убегает от него вдоль Сены, он уводит ее от моря, она бредет за ним по Флоренции, бок о бок они шагают по Бостону, рука об руку – по Бурбон-стрит.
Здесь и сейчас, в Нью-Йорке, они вместе. Адди гадает: а что бы было, если бы он тогда не произнес роковые слова, если бы не раскрыл карты, если бы все не испортил?
– Вся ночь наша, – говорит Люк, поворачиваясь к Адди. Его глаза снова сияют. – Куда отправимся?
«Домой», – думает она, хотя не может произнести это вслух.
Адди бросает взгляд на небоскребы, что высятся по обе стороны дороги.
– С которого вид лучше?
Спустя миг Люк улыбается, сверкнув зубами, и говорит:
– Следуй за мной!
* * *
За прошедшие годы Адди узнала много секретов Нью-Йорка, но этот ей неизвестен. Он располагается не под землей, а на крыше.
На восемьдесят четвертый этаж можно добраться на двух лифтах. Первый совершенно обычный и идет только до восемьдесят первого. А вот второй – точная копия «Врат Ада» Родена с извивающимися телами, что изо всех сил рвутся на волю, – доставит вас на место.
Если, конечно, у вас есть ключ.
Люк вынимает черную карточку из кармана рубашки и вставляет ее в одну из разверстых пастей возле лифта.
– Это твой? – спрашивает Адди, когда двери разъезжаются в стороны.
– Ничто по-настоящему мне не принадлежит, – отвечает он, когда они входят в лифт.
Подъем длится недолго: всего три этажа, и лифт останавливается, створки раздвигаются, открывая панорамный вид на город.
Черными буквами у ног Адди вьется название: «Легкий путь».
Она только закатывает глаза:
– А «Преисподнюю» что, уже заняли?
Глаза Люка сверкают от удовольствия.
– «Преисподняя» – это другой клуб.
Полы отлиты из бронзы, перила стеклянные, потолок не заслоняет небо; одни гости отдыхают на бархатных диванах, другие окунают ступни в неглубокие бассейны, третьи возле ограждения крыши любуются видом на город.
– Мистер Грин! – радостно восклицает хостес. – С возвращением.
– Спасибо, Рене. Позволь представить тебе Аделин. Предоставь ей все, чего она только ни пожелает.
Рене бросает на Адди взгляд, но по хостес видно: та действует без принуждения, нет ощущения, что девушка зачарована, в ней заметна лишь преданность ответственного сотрудника, который отлично справляется с работой.
Адди просит самый дорогой напиток, и Рене с ухмылкой смотрит на Люка:
– Вы нашли подходящую пару.
– Верно, – отвечает он, опуская руку на талию Адди и слегка подталкивая ее вперед.
Она ускоряет шаг, устремляясь сквозь толпу гостей к стеклянному ограждению, откуда открывается вид на Манхеттен, и Люк роняет руку. Звезд, конечно, не видно, зато во все стороны галактикой света простирается Нью-Йорк.
По крайней мере, здесь, наверху, Адди может дышать свободно.
Повсюду легкий смех, фоновый шум толпы, наслаждающейся собой, и это намного приятнее душной тишины пустого ресторана, молчания в замкнутом пространстве машины. Над головой – открытое небо, вид на прекрасный город, к тому же они больше не наедине.
Рене приносит бутылку шампанского с легким налетом пыли на стекле.
– «Дом Периньон, 1959», – провозглашает она, предъявляя бутылку для осмотра. – Из ваших личных запасов, мистер Грин.
Повинуясь взмаху его руки, Рене откупоривает шампанское и наливает в бокалы. Пузырьки такие крошечные, что кажутся бриллиантовыми вкраплениями в стекле.
Адди пробует напиток и наслаждается искорками, покалывающими язык. Она разглядывает гостей: лица из тех, что кажутся узнаваемыми, хотя сложно сказать, где вы их видели. Люк показывает ей сенаторов, актеров, авторов книг и критиков, и она думает – продал ли кто-то из них сегодня свою душу? Или только собирается?
Адди смотрит в свой бокал – пузырьки все еще плавно поднимаются на поверхность. Наконец она начинает говорить, не повышая голоса, почти шепотом, который тонет в гуле толпы, но Адди знает: Люк слушает и слышит.
– Отпусти его, Люк.
Тот поджимает губы.
– Аделин, – предупреждающе произносит он.
– Ты обещал выслушать.
– Прекрасно. – Он опирается спиной на ограждение и простирает руки. – Расскажи мне все. Объясни, что ты нашла в нем – своем последнем человеческом любовнике.
«Генри Штраус внимательный и добрый, – хочет сказать Адди. – Умный и живой, ласковый и нежный».
Но Адди знает, что действовать нужно осторожно.
– Что я в нем нашла? – переспрашивает она. – Себя. Не ту, какой стала, но, возможно, какой была в ночь, когда ты пришел меня спасти.
– Генри Штраус хотел умереть, – хмурится Люк. – Ты хотела жить. Вы совершенно не похожи.
– Все не так просто.
– Неужели?
Адди качает головой.
– Ты видишь одни изъяны и промахи, слабости, которые можно использовать. Но люди сложнее, Люк, и это изумительно. Они живут, любят, совершают ошибки и столько всего чувствуют. И возможно – возможно, – я больше не одна из них, – вырывается у нее, потому что Адди знает – это правда. К добру или к худу. – Но я помню, – продолжает она, – помню, каково это, и Генри…
– С Генри все кончено.
– Он ищет себя, – возражает Адди. – И найдет, если ты ему позволишь.
– Позволь я ему, он спрыгнул бы с крыши.
– Ты не можешь знать и не узнаешь, потому что вмешался.
– Я торгую душами, Аделин, а не даю второй шанс.
– А я умоляю тебя отпустить его. Меня ты не отпустишь, так отдай взамен Генри.
Люк раздраженно фыркает и обводит крышу рукой.
– Выбирай, – приказывает он.
– Что?
– Выбери душу, которая займет его место. Любого незнакомца. Отдай проклятье Генри кому-то из них. – Его голос звучит приглушенно, спокойно и уверенно: – Всему есть цена. Она должна быть уплачена. Генри Штраус обменял свою душу. Ты отдашь чужую, чтобы вернуть ее?
Адди таращится на толпу, что беззаботно прогуливается по крыше, на узнаваемые и совершенно незнакомые лица. Юные и старые, в парах и одинокие.
Есть ли среди них невинные?
Есть ли жестокие?
Адди не знает, способна ли сделать это, но вот ее рука сама по себе поднимается и указывает на мужчину в толпе. Сердце глухо стучит в груди; она ждет, что Люк сейчас отпустит ее, выйдет вперед и потребует свое.
Но он не двигается с места. Лишь смеется.
– Ах, Аделин, – говорит он, целуя ее в макушку, – моя Аделин, ты даже не представляешь, насколько изменилась.
Адди поворачивается к нему, чувствуя, как до тошноты кружится голова.
– Больше никаких игр, – требует она.
– Хорошо, – соглашается Люк и утаскивает ее во тьму.
Крыша уходит из-под ног, вокруг простирается пустота, поглотившая все, кроме беззвездного неба, бесконечная, яростная ночь. А когда мгновение спустя та исчезает, мир погружается в тишину, город пропал из виду, и Адди снова остается одна в чаще леса.
XIV
1 мая 1984
Новый Орлеан, Луизиана
А вот как все заканчивается.
На подоконнике мерцают свечи, отбрасывая длинные колеблющиеся тени на кровать. За распахнутым окном простирается самая черная ночь, в воздухе веет первыми проблесками лета. Адди нежится в объятиях Люка, а тот, как простыня, окутывает ее.
«Вот что такое дом», – думает Адди.
Возможно, это и правда любовь.
И это самое ужасное. Она наконец кое-что забыла. Что совершенно неправильно, ведь только это и стоило помнить. Мужчина в ее постели – не человек. Их жизнь – не жизнь вовсе. Это игры, сражения в конце концов своего рода война.
Что-то прикасается к ее подбородку, и Адди чудится – зубы.
Люк шепчет, уткнувшись ей в затылок:
– Моя Аделин…
– Я не твоя, – говорит она, но Люк лишь улыбается, Адди чувствует его улыбку.
– И все же мы вместе. Мы принадлежим друг другу.
– Ты меня любишь? – спрашивает она.
Он рассеянно поглаживает ее по ноге.
– Ты же знаешь, что да.
– Тогда отпусти меня.
– Я не держу тебя здесь.
– Я не то имела в виду, – говорит Адди, приподнимаясь на локте. – Дай мне свободу.
Люк немного отодвигается, чтобы заглянуть ей в глаза.
– Я не могу разорвать сделку. – Он склоняет голову, задевая черными прядями ее щеку, и шепчет: – Но, возможно, получится ее обновить.
Сердце Адди тяжело колотится в груди.
– Может быть, я смогу изменить условия.
Она замирает, едва дыша. Слова Люка отдаются на коже.
– Улучшить их, – бормочет он. – Тебе нужно лишь сдаться.
Ее словно обдает холодом.
Спектакль окончен. На сцену опускается занавес: прекрасные декорации, постановка, актеры – все скрывает темный полог.
Приказ, сказанный шепотом в ночи.
Предупреждение сломленному.
Вопрос, который Люк задавал снова, снова и снова – годами, – пока не перестал. Давно ли он прекратил спрашивать? Но, конечно же, Адди знает: это случилось тогда, когда изменились его методы, когда он смягчился.
Она круглая дура. Дура, потому что решила, что все это означает мир, а не войну.
– Что? – удивляется Люк, изображая непонимание, но Адди бросает ему в лицо его же слово.
– Сдаться?
– Это просто фигура речи, – отмахивается Люк, однако он сам и научил ее, что слова обладают властью.
Слово это все, слово Люка – змея, уловка, проклятие.
– Такова природа вещей, – объясняет дьявол и продолжает уверять: – Просто чтобы изменить сделку.
Но Адди отшатывается от него, высвобождаясь из объятий.
– Хочешь, чтобы я тебе доверилась? Сдалась и ждала, что ты меня вернешь?
За столько лет он множество раз менял формулировки.
– Считаешь меня идиоткой, Люк? – Лицо Адди горит от гнева. – Поразительно, и как это у тебя хватило терпения? Но ты всегда наслаждался охотой.
– Аделин… – Зеленые глаза прищуриваются во тьме.
– Не смей произносить мое имя! – звенящим от ярости голосом восклицает Адди, вскакивая на ноги. – Я ведь знала, что ты монстр, Люк, я столько раз это видела. И все же решила – не представляю, почему, – что после стольких лет… Но, конечно, это была не любовь, даже не милосердие. Просто очередная игра.
На мгновение ей кажется, что она ошиблась, – настолько обиженным и сбитым с толку выглядит Люк. Она спрашивает себя – а действительно ли он хотел сказать это, если, если…
Но все кончено.
Боль стекает с его лица и плавно, словно облако, затенившее солнце, растворяется. На губах Люка играет мрачная улыбка.
– Слишком утомительной оказалась эта игра.
Она знает, что вывела его на чистую воду, но правда ранит. Если раньше Адди была сломлена, теперь он ее сокрушил.
– Так что не вини меня, если я испробовал другой прием.
– Я виню тебя за все.
Люк встает, и мрак, будто шелк, клубится вокруг него.
– Я дал тебе все.
– И все это было ненастоящим.
Она не заплачет!
Не даст ему насладиться ее страданиями.
Она вообще больше ничего ему не даст.
Так начинается бой. Вернее, так он заканчивается.
Все же большинство сражений – не минутное дело. Они занимают дни, недели, стороны собирают снаряды, готовятся к битве.
Но их война закалялась веками.
Противостояние девушки и тьмы такое же древнее и неизбежное, как круговорот вещей в природе, как смена эпох.
Адди стоило знать, что это произойдет. Возможно, она знала.
Но и по сей день не представляет, с чего начался пожар. Возможно, причиной стали свечи, которые она сбросила на пол, или светильник, сорванный ею со стены, может, огонь запалил Люк, решив досадить ей в последний раз…
Она знает, что в одиночку ей не хватило бы сил все разрушить, однако у нее получилось. У них получилось. Возможно, Люк позволил ей зажечь пламя. Или просто дал ему разгореться.
В конце концов, какая разница…
Адди стоит на Бурбон-стрит и смотрит, как пламя пожирает особняк. Когда приезжают пожарные, тушить уже нечего. Остался только пепел.
Еще одна жизнь растаяла с дымом.
У нее нет ничего, даже ключа в кармане. Раньше он лежал там, но когда Адди начинает его искать – ключ исчезает. Рука сама тянется к шее за деревянным кольцом.
Она срывает его, швыряет в дымящиеся развалины своего дома и уходит прочь.
XV
30 июля 2014
Нью-Йорк
Повсюду деревья.
В чаще пахнет летом и мхом. Адди окутывает страх: что, если Люк нарушил оба правила вместо одного, утащил ее во мрак, унес из Нью-Йорка и бросил очень далеко от дома.
Но когда глаза привыкают к темноте, Адди замечает линию горизонта над деревьями и понимает: наверное, она где-то в Центральном парке.
Ее захлестывает облегчение.
А потом во тьме раздается голос Люка:
– Аделин, Аделин… – зовет он, и неясно, эхо ли это или сам Люк, который не принял форму смертного, избавился от плоти и костей.
– Ты обещал! – напоминает она.
– Неужели?
Из мрака выступает Люк, в точности такой, как в роковую ночь, окутанный дымом и тенью. Буря в оболочке из кожи.
На нем уже нет черного костюма, он одет в точности как в тот раз, когда Адди впервые его призвала. Незнакомец в брюках, светлой сорочке с расстегнутым воротом; у висков вьются темные кудри.
Греза, рожденная много лет назад.
И все же что-то изменилось. В его глазах нет победного блеска. Они почти утратили цвет, посветлели настолько, что кажутся серыми. Адди никогда не видела у Люка подобного оттенка глаз, и все же она догадывается, что это печаль.
– Я дам тебе, что ни пожелаешь, если ты кое-что сделаешь.
– Что? – спрашивает Адди.
Люк протягивает руку:
– Потанцуй со мной.
Его голос пронизан тоской, осознанием потери, и Адди думает, что, возможно, это конец всего. Их конец. Игра все же закончилось. В войне нет победителей.
И она соглашается на танец.
Музыки нет, но это неважно.
Когда Адди берет его за руку, в голове у нее начинает звучать мелодия, нежная и успокаивающая. Не песня, но звуки летнего леса, шепот ветра в полях. Люк прижимает ее ближе, и она слышит, как печально и негромко плачет над Сеной скрипка. Рука Люка скользит по ее руке, и Адди чудится шорох прилива, симфония, что парит над Мюнхеном. Адди опускает голову ему на плечо, и ей мерещится дождь в Вийоне, оркестр в Лос-Анджелесе, пассажи саксофона, вплывающие в открытые окна особняка на Бурбон-стрит.
Танец прекращается.
Музыка затихает.
По щеке Адди струится слеза.
– Тебе нужно было всего лишь освободить меня…
– Я не мог.
– Из-за сделки.
– Из-за того, что ты моя.
Адди вырывается из его рук и отворачивается.
– Я никогда не была твоей, Люк, даже в чаще той ночью. Даже когда ты уложил меня в постель. Именно ты сказал, что это просто игра.
– Я солгал. – Слова вонзаются как нож. – Ты любила меня, а я любил тебя.
– И все же ты не искал меня, пока я не нашла другого.
Она поворачивается к нему, думая, что его глаза налились желтым от ревности, но те приняли тускло-зеленый оттенок самодовольства, что отражается и в выражении лица Люка, слабом изгибе брови, приподнятых уголках рта.
– О, Аделин, неужели ты думаешь, вы нашли друг друга? – Подножка, внезапное падение… – Ты и правда решила, что я позволю такому случиться?
У Адди земля уходит из-под ног.
– Думаешь, подобное могло ускользнуть от моего внимания?
– Наверное, ты считала себя такой умной, – замечает он, возвращая ее в настоящее. – Возлюбленные, которых случайно соединили звезды. Каковы были шансы, что вы встретитесь – люди, продавшие душу, притом оба связанные со мной, чьи проклятья взаимоуничтожаемы? Ведь правда очевидна как никогда – это я подтолкнул к тебе Генри. Вручил, завернув и перевязав ленточкой, как подарок.
– Но зачем? – спрашивает Адди, с трудом выдавливая слова. – Зачем тебе это?
– Потому что этого ты и хотела. Так хотела удовлетворить свою потребность в любви, что ничего кроме нее не замечала. И я дал тебе это – подарил Генри. Надеюсь, теперь до тебя дошло, что любовь не стоит даже крошечного уголка в твоей душе, который ты для нее отвела. Уголка, куда ты меня не пускала.
– Еще как стоит.
Он ласково касается ее щеки.
– Все кончится, когда он уйдет.
Адди отшатывается от него. От слов Люка, от его руки.
– Это жестоко, Люк, даже для тебя.
– Нет, – огрызается он, – жестоко было бы дать ему десяток лет вместо одного года. Жестоко было бы позволить тебе прожить рядом с ним всю жизнь и наблюдать, как ты оплакиваешь потерю.
– Я бы все равно выбрала его! Ты ведь не собирался возвращать ему жизнь, правда?
Люк склоняет голову.
– Уговор есть уговор, Аделин. Он обязателен к выполнению.
– Значит, ты затеял все это, чтобы помучить меня…
– Нет! – рявкает Люк. – Я просто хотел показать тебе, заставить тебя понять. Ты возвела любовь на пьедестал, но людская жизнь коротка, люди слабы, и любовь у них такая же. Неглубокая, недолговечная. Ты жаждешь человеческой любви, но ты не человек, Аделин. Ты перестала им быть сотни лет назад. Тебе нет места среди них, ты должна быть со мной.
Адди отступает, жаркий гнев, что полыхал внутри, превращается в лед.
– Наверное, для тебя это был суровый урок, – отвечает она. – Нельзя получить все, что хочешь!
– Что? – ухмыляется Люк. – Хотят малые дети. Будь это обычное желание, я бы давно избавился от тебя, – с горечью выплевывает он. – Это необходимость. Она болезненна, но терпения мне не занимать. Слышишь, Аделин? Я нуждаюсь в тебе. Как и ты нуждаешься во мне. Я люблю тебя так же, как ты меня любишь.
Его голос полон боли.
Возможно, именно из-за этого Адди хочется заставить его страдать еще сильнее.
Он хорошо обучил ее находить бреши в доспехах.
– В том-то и дело, Люк. Я тебя совсем не люблю.
Слова звучат мягко, спокойно, и все же в темноте они отдаются грохотом.
Шумят деревья, сгущаются тени, а глаза Люка горят таким цветом, какого Адди никогда раньше не видела. Ядовитым. И впервые за долгие столетия она боится.
– Неужели он столько для тебя значит? – спрашивает Люк твердым, как речные голыши, голосом. – Тогда иди. Проведи время со своим человеческим возлюбленным. Похорони его, поплачь по нему и посади дерево над его могилой. – Края силуэта Люка начинают размываться. – Я все еще буду здесь… Как и ты.
Он поворачивается и уходит.
Адди опускается на колени в траву.
Она сидит так, пока первые лучи солнца не пронзают небо, а потом наконец заставляет себя подняться. В тумане Адди плетется к станции метро, прокручивая в голове слова Люка.
Когда она добирается до Бруклина, солнце уже всходит.
Адди останавливается купить завтрак в качестве шага навстречу, извинения за то, что отсутствовала всю ночь, и ее взгляд падает на пачку газет у газетного киоска. В верхнем углу стоит дата:
Она покинула квартиру Генри тридцатого июля.
Проведи время с возлюбленным, сказал он!
И отобрал его, украл не одну ночь, а целую неделю. Семь дней стерты из ее жизни… и из жизни Генри.
Адди бежит.
Врывается в дом, мчится по лестнице, роется в сумочке, но ключа нет, и тогда Адди принимается в отчаянии колотить в дверь кулаками. Ее охватывает ужас – вдруг мир изменился, вдруг Люк каким-то образом переписал не только время, забрал больше – забрал все.
Но щелкает замок, распахивается дверь, а за ней стоит Генри – измученный, растрепанный, и по его глазам Адди понимает: он вообще не ждал ее возвращения. Что в один из дней, в какой-то миг решил, что она ушла.
Адди стремительно бросается к нему.
– Прости, – стонет она, имея в виду не только украденную неделю. Адди извиняется сразу за все – за сделку, за проклятие, за то, что все это – ее вина. – Прости! – снова и снова повторяет она.
Генри не кричит, не злится, не ворчит «я же говорил». Просто крепко ее обнимает.
– Хватит, – бормочет он и потом: – Пообещай мне. Останься!
Он не задает вопросов, но Адди знает, о чем Генри ее умоляет: все забыть, прекратить борьбу, оставить попытки изменить их судьбы и просто остаться с ним до конца.
Ей невыносима мысль все бросить и сдаться, просто сдаться без боя.
Но Генри сломлен, и в этом виновата она, Адди, и в конце концов она все же соглашается.
XVI
Август 2014
Нью-Йорк
Наступают самые счастливые дни в жизни Генри. Он знает, что это странно.
Но теперь Генри по-своему свободен, ведь знание дарит своеобразное утешение. Конец неизбежно приближается, и все же у Генри нет ощущения безысходности.
Он отдает себе отчет, что должен бояться.
Каждый день Генри ждет, когда нахлынет неописуемый ужас, окутает грозовое облако, неизбежная паника поселится в груди и разорвет его на части.
Но впервые за долгие месяцы, даже годы, так давно, что и не припомнить, Генри не боится. Конечно, он переживает за друзей, за книжный магазин и кота.
Но за этим легким облаком тревоги только странное спокойствие и невыразимое облегчение: он нашел Адди, успел узнать и полюбить ее, увидеть, что она рядом с ним счастлива.
Он счастлив.
Он готов.
Он не боится.
Именно это твердит себе Генри.
Он не боится.
* * *
Адди и Генри решают выбраться за город, подальше от удушливой жары. Он берет машину в аренду, и они едут на север. На полпути к Гудзону Генри вдруг вспоминает, что Адди так и не познакомилась ни с кем из Штраусов. А потом его осеняет: до Рош ха-Шана он домой не попадет, а к тому времени его уже не станет. И если не свернуть прямо здесь, шанса попрощаться не будет.
И сразу начинают сгущаться тучи, страх пробирается в грудь, ведь Генри даже не знает что сказать, не знает, выйдет ли из этого что-то хорошее.
Но поворот остается позади, уже слишком поздно, и Генри снова может дышать свободно. Адди показывает на знак «Свежие фрукты», и они съезжают с автострады, чтобы купить на рынке персики и сэндвичи, а потом еще час катят на север, к национальному парку. Солнце здесь тоже жаркое, но тень раскидистых деревьев дарит прохладу. Генри и Адди весь день блуждают по тропинкам, а когда наступает ночь, устраивают пикник на крыше машины. Внизу – дикая трава, вверху – звезды.
Звезд так много, что они рассеивают ночную мглу.
И Генри все еще счастлив.
Он все еще может дышать.
Палатку они не захватили, все равно слишком жарко, чтобы в ней спать. Они расстилают одеяло на траве и смотрят на призрачный Млечный Путь. Генри вспоминает «АРТефакт» на Хай-Лайн, экспозицию неба и то, какими близкими там казались звезды, и как они сейчас далеко.
– Если бы все вернуть, – спрашивает он, – ты бы снова заключила сделку?
И Адди отвечает «да».
Это была тяжелая и одинокая жизнь, говорит она, но и чудесная тоже. Адди пережила войны, сражалась в них, стала свидетелем революции и возрождения. Оставила свой след в тысячах произведений искусства, словно отпечаток пальца на дне невысохшей глиняной миски. Видела чудеса и сходила с ума, танцевала на снегу и до смерти замерзала на берегах Сены. Множество раз влюблялась в призрачного бога и однажды полюбила человека.
Адди устала. Невыразимо устала.
Но без сомнений она – жила.
– Не бывает только хорошего или плохого, – говорит Адди. – Жизнь намного сложнее.
И тогда посреди темной ночи Генри спрашивает, а стоило ли оно того.
Стоили ли мгновения радости месяцев горя?
Мимолетная красота – долгих лет страданий?
И тогда Адди поворачивает голову, смотрит на него и отвечает:
– Всегда.
Они засыпают под звездами, а когда просыпаются утром, жара заканчивается, их встречает прохлада, первый вестник новой осени, той, которую Генри уже не увидит.
И все же он твердит себе, что не боится.
* * *
А потом оставшиеся недели превращаются в дни.
Пора прощаться.
Однажды вечером Генри встречается с Беа и Робби в «Негоцианте». Адди сидит за барной стойкой, потягивая газировку. Дает ему время поговорить. Генри хочет, чтобы она была рядом, Адди нужна ему – безмолвный якорь во время бури. Но они оба знают, что, присоединись она к компании, Беа и Робби могли бы все забыть, а нужно, чтобы помнили.
На какое-то время все становится чудесно, до боли нормально.
Беа рассуждает о своей диссертации – наверное, девятый раз оказался удачным, потому что проект одобрили. Робби рассказывает о премьере, которая состоится через неделю, но Генри не говорит ему, что пробрался вчера на генеральный прогон. Они с Адди, пригнувшись, спрятались на заднем ряду, чтобы посмотреть Робби на сцене – в родной стихии – гениального и прекрасного, с дьявольской усмешкой развалившегося на троне во всем блеске обаяния Боуи и собственных чар.
Наконец Генри врет друзьям, что собирается ненадолго уехать из города.
На север, навестить родителей. Да, еще не пора, но приехали родственники, и мама уговорила с ними повидаться. Это всего лишь на один уик-энд.
Беа он просит поработать в магазине, а Робби – покормить кота.
Они соглашаются – легко и просто, потому что не знают, что это прощание. Генри оплачивает счет, Робби шутит, Беа жалуется на своих старшекурсников, а Генри говорит, что позвонит, когда вернется.
А когда он уже собирается уходить, Беа целует его в щеку, а он обнимает Робби. Тот строго наказывает ни в коем случае не пропускать представление, и Генри обещает, что ни за что не пропустит, и вот они уже уходят, и вот уже ушли.
«Таким и должно быть прощание», – решает Генри.
Не точка – многоточие, подвисшее предложение, пока его не продолжит кто-нибудь другой.
Дверь, оставленная открытой. Дрема перед глубоким сном.
Генри говорит себе, что не боится.
Говорит, что все в порядке, с ним все нормально.
А когда начинают одолевать сомнения, его руку накрывает рука Адди – мягко и уверенно ведет Генри домой. Они забираются в постель и прижимаются друг другу. Двое людей, укрывшихся от бури.
Примерно в середине ночи Генри чувствует, как Адди встает с постели, слышит ее шаги в коридоре.
Но уже слишком поздно, и мысли текут чересчур лениво.
Генри переворачивается и снова засыпает, а когда просыпается в темноте, Адди снова рядом с ним.
Стрелка на часах становится на деление ближе к полуночи.
XVII
4 сентября 2014
Нью-Йорк
Совершенно обычный день. Они угнездились в постели голова к голове, Генри гладит руки Адди, ее щеки, пальцами запоминает кожу. Он шепчет ее имя снова и снова, словно она может сберечь его, сохранить и пользоваться после того, как он уйдет.
Адди, Адди, Адди…
Но, несмотря на все, Генри счастлив. Или по крайней мере себя в этом убеждает. Твердит, что готов и что не боится. Думает, что, если остаться здесь, в постели, можно продлить день. Если затаить дыхание, секунды перестанут утекать, получится зажать минуты сплетенными с Адди пальцами.
Эта мольба остается невысказанной, но Адди, похоже, чувствует его настроение, потому что даже не предпринимает попытки встать. Она лежит с ним в кровати и рассказывает истории.
Уже не про их с Люком годовщины – те закончились, – но о других днях в сентябре или мае, тихих днях, которые никто бы и не вспомнил. О сказочных бассейнах острова Скай, северном сиянии в Исландии, о том, как она плавала в озере, настолько чистом, что видела дно на десять метров в глубину. Это было в Португалии… или в Испании?
Истории, которые Генри никогда не запишет.
Это его ошибка: он не в силах заставить себя выбраться из объятий Адди, подняться с постели, взять с полки единственную оставшуюся записную книжку. Их уже шесть, последняя заполнена наполовину, такой она и останется: чистые страницы, а до того – записанный плотным неразборчивым почерком фальшивый конец незаконченной истории. Сердце Генри пропускает удар, слегка замирает от ужаса, но он знает, что нельзя позволять буре разгуляться на полную, иначе та разорвет его на части, как небольшой озноб превращает легкую дрожь от холода в тряску, когда зуб не попадает на зуб. Нельзя терять контроль, нет, еще рано.
Рано.
Поэтому Адди говорит, а он слушает, пропуская через себя истории, словно волосы сквозь пальцы. И каждый раз, как на поверхность пытается пробиться паника, Генри с ней борется, задерживает дыхание и убеждает себя, что все в порядке, но не шевелится, не пытается встать. Просто не может, потому что, если встанет, чары разрушатся, время помчится вскачь, и все закончится слишком быстро.
Генри знает, что это ужасно глупо, какое-то странное суеверие, но страх никуда не исчезает, он настоящий, а в кровати безопасно. Адди не двигается с места, и Генри так рад, что она с ним, благодарен за каждую минуту с момента их встречи.
Где-то в полдень его вдруг накрывает голод. Генри просто умирает от голода.
Это неправильно. Легкомысленно, поверхностно и неуместно, но голод мгновенно одолевает Генри, и вместе с его появлением минуты ускоряют бег.
Невозможно удержать время.
Оно мчится, стремительно несется вперед.
Адди смотрит на Генри, будто может прочесть его мысли, увидеть, как в голове назревает буря. Но Адди – солнышко, она разгоняет облака, и снова на горизонте чистое небо.
Она вытаскивает его из кровати и тянет на кухню. Генри сидит на табуретке и наблюдает за Адди, которая готовит омлет и рассказывает ему, как впервые летала на самолете, услышала песню по радио, увидела фильм.
Это ее последний подарок, таких мгновений у Генри больше не будет.
Он тоже преподносит ей последний дар – слушает.
Вот бы снова забраться в постель с Томиком, но оба знают – пути назад нет.
Теперь, когда они оттуда выбрались, неподвижность кажется Генри невыносимой. В нем бурлит беспокойная энергия, ему срочно требуется что-то предпринять, а времени не хватает, и Генри знает – его уже не будет никогда.
Время всегда заканчивается за секунду до того, как вам пора. Постоянно не хватает какого-то мгновения.
Поэтому, когда паника начинает захлестывать Генри, они одеваются, выходят на улицу и принимаются наворачивать круги по кварталу. Это все равно что зажимать рукой разбитое стекло, пытаться сдержать расползающиеся трещины, но Адди рядом, и ее пальцы переплетены с пальцами Генри.
– Знаешь, как прожить три сотни лет? – спрашивает она.
– Как? – подхватывает Генри.
– Так же, как живут год, – секунду за секундой.
У Генри гудят ноги, но беспокойство отступает – не исчезает совсем, но с ним уже можно справиться.
Они идут в «Негоциант», заказывают еду, но не едят, пиво, но не пьют – Генри невыносима идея провести последние несколько часов в опьянении, как бы ни боялся он встретить судьбу в трезвом виде.
Генри отпускает шуточки о последней трапезе, смеется над этой безумной мыслью, и лицо Адди искажается, всего на секунду, но Генри принимается извиняться – ему так жаль, а она обнимает его всем телом, и паника вновь вонзает в него свои когти.
В голове нарастает буря, затмевая небо над горизонтом, но Генри и не думает сопротивляться.
Пусть приходит.
И только когда начинается дождь, Генри понимает, что буря – настоящая. Он запрокидывает голову, позволяя каплям струиться ему на лицо, и думает о ночи в «Четвертом рельсе», о том, как они вышли из клуба на улицу и на них обрушился ливень, от которого перехватило дыхание. Он вспоминает о том дне, а не о крыше, и это что-то да значит.
Нынешний Генри так далек от того, который забрался на крышу год назад… А может, и не настолько далек. В конце концов, до края всего несколько шагов. Но Генри отдал бы все за то, чтобы спуститься обратно.
Боже, он отдал бы все за еще один день.
Солнце село, наступили сумерки, и Генри не встретит новый восход. Страх обрушивается на него, внезапный и предательский. Словно порыв ветра на застывший пейзаж. Генри сражается с ним, еще рано, чересчур рано, и Адди сжимает его руку, чтобы того не унесло прочь.
– Останься со мной, – просит она.
Генри отвечает:
– Я здесь.
Его пальцы крепко сжимают ее.
Ему нет нужды спрашивать, как ей – отвечать.
И без того ясно, что она будет рядом с ним до самого конца.
Что на сей раз он не останется один.
И с ним все хорошо.
Все хорошо.
Все будет хорошо. Время почти пришло.
XVIII
Время почти пришло, они уже на крыше.
Это та же самая крыша, на которую Генри поднялся год назад, та, где дьявол предложил ему сделку. Круг замкнулся. Генри не знает, должно ли все произойти здесь, но это кажется ему правильным.
Адди держит Генри за руку, и это тоже кажется правильным. Она – его громоотвод в надвигающейся буре.
Осталось совсем немного, стрелка на часах всего в одном делении от полуночи. Генри так и слышит голос Беа:
И Генри невольно улыбается и жалеет, что почти ничего не сказал Беа и Робби, но дело в том, что он просто не доверял себе. Генри попрощался как мог, хотя до поры до времени они об этом не узнают. Не хочется причинять им страдания, но радостно, что они есть друг у друга.
Рука Адди сжимает его крепче.
Как это будет? Похоже на сердечный приступ, внезапный и сильный, или на тихий сон? У смерти множество лиц. Может, явится мрак, запустит руку ему в грудь и как по волшебству вырвет оттуда душу? Или неведомая сила заставит его закончить начатое год назад? Подойти к краю крыши и шагнуть вниз. Найдут ли его потом на улице внизу, будто он сам спрыгнул?
Или тело обнаружат на крыше?
Генри не знает.
Ему и не нужно знать.
Он готов.
Он, черт возьми, совершенно не готов!
Не был готов в прошлом году, когда незнакомец на крыше протянул ему руку, и не готов сейчас. Генри начинает подозревать, что к смерти вообще не готов никто – ни когда наступает время, ни когда мрак приходит потребовать свое.
Вдруг из соседского окна начинает струиться негромкая музыка, и Генри ненадолго забывает о смерти и крае крыши и вспоминает о девушке, которая держит его за руку. О той, что просит с ней потанцевать.
Генри притягивает ее к себе: она пахнет летом, вечностью и домом.
– Я здесь, – говорит Адди.
Она обещала оставаться с ним до самого конца.
Слова эхом отдаются в голове, как бой часов, но еще не пора, еще осталось немного времени, хотя оно уходит так быстро.
Когда ты растешь, тебе говорят, что ты можешь испытывать за раз только одно чувство – злость, одиночество, удовольствие. Генри всегда думал, что это враки. Он испытывает множество чувств одновременно – десятки. Генри в растерянности, испуган и благодарен, ему жаль, он счастлив и боится.
Но он не один.
Снова начинается дождь, над городом разливается металлический запах бури. Генри она не страшит, ему кажется, в этом есть какая-то гармония.
Они медленно кружатся по крыше.
Генри несколько дней почти не спал, ноги у него налились тяжестью, голова с трудом соображает, минуты несутся одна за другой. Ему хочется, чтобы музыка была громче, а небо – светлее, чтобы у него было еще немного времени.
Никто не готов умирать.
Даже если он этого хочет.
Никто не готов.
Генри не готов.
Но время пришло, пора.
Адди что-то говорит, но часы остановились, стали невесомыми. Время пришло, Генри уже чувствует, как ускользает, как размывается его сознание. Сгущается ночь, и в любой миг из тьмы может появиться незнакомец.
Адди поворачивает его лицо к себе и продолжает говорить, но Генри не слушает, он боится, что это прощание. Ему хочется задержать мгновение, продлить его, нажать на паузу и сделать стоп-кадр. Пусть все так и кончится – не мраком или чем-то другим, просто он навсегда останется в этом мгновении. Память, застывшая в янтаре, в стекле, во времени.
Но Адди все еще продолжает говорить.
– Ты обещал меня выслушать! Обещал, что все запишешь.
Генри ничего не понимает – дневники лежат на полке. Он записал ее историю, каждое слово.
– Я так и сделал.
Но она качает головой.
– Генри, я ведь еще не рассказала, чем все закончится.
XIX
1 сентября 2014
Нью-Йорк, за три ночи до конца
Некоторые решения принимаются мгновенно. Другие – со временем.
После долгих лет мечтаний девушка заключает сделку с тьмой.
В парня она влюбляется мгновенно и решает его освободить.
Когда именно она принимает это решение, Адди не знает.
Возможно, в ту ночь, когда Люк вернулся в их жизнь. Или в тот вечер, когда Генри написал ее имя.
Или в тот день, когда он сказал: «Я тебя помню».
Точно Адди не знает, да это и неважно.
Важно то, что за три ночи до конца Адди потихоньку выбирается из постели. Генри ворочается во сне, слышит, как она крадется по коридору, но к тому времени, как Адди надевает туфли и ускользает из дома, уже снова спит.
На часах почти два – не то слишком поздно, не то слишком рано, и даже Бруклин дремлет, когда Адди торопится в «Негоциант». До закрытия еще час, толпа схлынула, осталось лишь несколько посетителей, твердо решивших надраться.
Она садится за барную стойку и заказывает текилу. Адди не большая любительница крепких напитков, но все же опрокидывает стопку. В груди разливается тепло. Адди лезет в карман и нащупывает кольцо.
Пальцы сжимают деревянный ободок. Достав его, она ставит кольцо вертикально на стойку. Но у него нет ни орла, ни решки, нельзя решить – да или нет, она уже сделала выбор, и другого не существует.
«Когда оно упадет, – думает Адди, – я его надену».
Кольцо начинает падать – кружится и раскачивается, но тут поверх него ложится рука, прижимая украшение к стойке.
Гладкая и сильная рука, с длинными пальцами – в точности такими, какими их Адди когда-то нарисовала.
– Почему ты не со своим возлюбленным?
Люк определенно не шутит. Его глаза невыразительны и темны.
– Он уснул, а мне не спится.
Люк убирает руку, и Адди смотрит на бледный кружок кольца на стойке.
– Аделин, – шепчет он, поглаживая ее по голове, – будет больно. Но боль проходит. Все когда-то заканчивается.
– Кроме нас, – бормочет Адди. И добавляет, словно сама себе: – Я рада, что это был только год.
Люк усаживается рядом.
– Понравилось тебе любить человека? Об этом ты мечтала?
– Нет, – отвечает Адди, и это правда.
Это было ужасно, сложно, чудесно, странно, пугающе. Хрупкие отношения – хрупкие до боли, – и они стоили каждой потраченной секунды. Ничего этого Адди не говорит. Ее «нет», отяжелевшее от надменности Люка, просто висит в воздухе между ними. Его глаза наливаются самодовольной зеленью.
– Но Генри не должен умирать, просто чтобы доказать твою правоту.
Самодовольство вытесняет гнев.
– Уговор есть уговор. Его нельзя нарушать.
– Но ты как-то упоминал, что можно пересмотреть условия. Ты говорил всерьез? Или это была уловка, чтобы заставить меня сдаться?
Люк мрачнеет.
– Никаких уловок, Аделин. Но если ты думаешь, что я изменю его…
– Я не говорю о сделке Генри, – качает головой Адди. – Я о своей. – Она репетировала речь, но слова все еще даются с трудом. – Я не прошу милосердия, знаю, ты не занимаешься благотворительностью. Предлагаю обмен: отпусти Генри, пусть он живет, позволь ему помнить меня и…
– Ты отдашь свою душу? – сразу спрашивает Люк, но в его взгляде проскальзывает тень, в словах – неуверенность, и хоть это не совсем тревога, Адди все же понимает, что добилась своего.
– Нет, – смело отвечает она, – но только потому, что ты сам этого не хочешь. – И, опережая возражения, добавляет: – Тебе нужна я.
Люк молчит, но глаза его светятся пробудившимся интересом.
– Ты был прав. Я не одна из них. Уже нет. Я устала от потерь. Устала оплакивать все, что пыталась полюбить. – Адди нежно касается щеки Люка. – Но тебя я не потеряю. И ты не потеряешь меня. Так что я отвечаю: «Да». – Она смотрит прямо ему в глаза. – Сделай это, и я буду твоей, пока ты хочешь, чтобы я была рядом.
Кажется, Люк даже задерживает дыхание. Адди не в силах сделать и вдоха. Мир накреняется, грозя упасть.
А потом наконец Люк с улыбкой отвечает:
– По рукам.
Изумрудные глаза победно горят. Адди от облегчения падает ему на грудь, а он приподнимает пальцами ее подбородок, поворачивает к себе лицом и целует так, как целовал в ночь их первой встречи, – быстро, глубоко и жадно, прикусывая нижнюю губу. Во рту у Адди растекается привкус меди.
И она понимает: дело сделано.
XX
4 сентября 2014
Нью-Йорк
– Нет! – в ужасе кричит Генри. Голос едва слышен сквозь бурю.
На крышу быстро и безжалостно обрушивается дождь. Обрушивается на них.
Часы остановились. Генри поднял руки вверх, сдаваясь, однако он все еще здесь.
– Нет, – бормочет он, борясь с головокружением, – я тебе не позволю.
Адди бросает на него сочувственный взгляд: разумеется, он не в силах ее остановить.
Да и никто не в силах.
Эстель говорила, что она тверда в своем упрямстве, как камень. Но даже камни рассыпаются в прах.
А Адди – нет.
– Ты не можешь, – повторяет Генри.
– Дело сделано, – отвечает она.
У Генри кружится голова, его мутит, земля словно уходит из-под ног.
– Но почему? – с мольбой спрашивает он. – Зачем ты это сделала?
– Воспринимай это как благодарность. За то, что ты меня разглядел. За то, что показал, каково это – когда тебя видят. Любят. Теперь у тебя есть второй шанс, но ты тоже должен дать окружающим увидеть тебя таким, какой ты есть. Найди того, кто будет тебя видеть.
Это неправильно.
Все это неправильно.
– Ты его не любишь.
Улыбка Адди преисполнена грусти.
– Я получила свою долю любви, – отвечает она.
Похоже, время и в самом деле пришло – перед глазами у Генри все расплывается и чернеет по краям.
– Послушай! – торопливо продолжает она. – Жизнь порой кажется очень длинной, но под конец она утекает очень быстро. – Ее глаза остекленели от слез, но Адди улыбается. – Так что лучше уж проживи хорошую жизнь, Генри Штраус.
Она почти ускользает, но он лишь крепче прижимает ее к себе.
– Нет!
Адди вздыхает, ероша ему волосы.
– Ты так много дал мне, Генри. Пожалуйста, сделай кое-что еще. – Она прислоняется лбом к его лбу. – Помни меня.
Она ускользает у него из рук, темнота застилает взор, крышу и девичий силуэт.
– Обещай, – просит Адди, и ее лицо начинает расплываться, исчезают губы, каштановые кудри, лицо сердечком, широко распахнутые глаза и созвездие веснушек.
– Обещай, – шепчет она, и Генри пытается снова прижать ее к себе и дать обещание, но когда руки смыкаются, Адди уже окончательно исчезает.
А он падает.